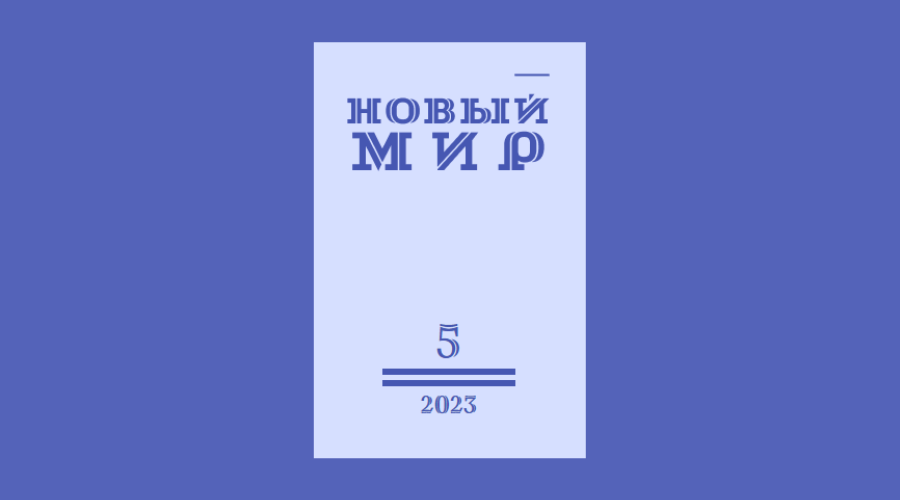«Новый мир» № 5 (1177), 2023
Литературно-художественный журнал «Новый мир» издаётся в Москве с 1925 года. Выходит 12 раз в год. Тираж 2000 экз. Публикует художественную прозу, стихи, очерки, общественно-политическую, экономическую, социально-нравственную, историческую публицистику, мемуары, литературно-критические, культурологические, философские материалы. В числе авторов «Нового мира» в разные годы были известные писатели, поэты, философы: Виктор Некрасов, Владимир Богомолов, Владимир Дудинцев, Илья Эренбург, Василий Шукшин, Юрий Домбровский, Виталий Сёмин, Андрей Битов, Анатолий Ким, Георгий Владимов, Владимир Лакшин, Константин Воробьёв, Евгений Носов, Василий Гроссман, Владимир Войнович, Чингиз Айтматов, Василь Быков, Григорий Померанц, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Руслан Киреев, Людмила Петрушевская, Ирина Полянская, Андрей Волос, Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Александр Карасёв, Олег Ермаков, Сергей Шаргунов и др. В журнале дебютировал с повестью (рассказом) «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын (1962, № 11).
Андрей Василевский - главный редактор, Михаил Бутов - первый заместитель главного редактора, Марианна Ионова - редактор-корректор, Ольга Новикова - заместитель заведующего отделом прозы, Павел Крючков - заместитель главного редактора, заведующий отделом поэзии, Владимир Губайловский - редактор отдела критики, Мария Галина - заместитель заведующего отделом критики.
«Он стоит над миром как мысленный столп огня»
Подборка Геннадия Русакова «На стрижином языке» открывает майский номер «Нового мира». Это лирический цикл из 12 пронумерованных текстов, воспринимаемых как единый поток. Ощущение потока задаёт ровная, не слишком разнообразная по метрике и ритмике силлаботоника с классической схемой рифмовки. Другие особенности подборки – разговорная доверительная интонация, обилие просторечной или сниженной лексики. Стихотворение даже может начаться как натурфилософская лирика: «Стоит июль в колоннах кафедральных, / в полотнищах развешанных дождей». Однако медитативная элегическая грусть о быстротекущем времени почти сразу профанируется, а к финалу и вовсе подрывается по-русаковски темпераментным восклицанием: «Смакуй свой век. Живи, едрёна вошь!»
Мотивы подборки традиционны для поздней лирики Русакова: кроме рефлексии над временем, это осмысление прожитой жизни («дурил, курил, влюблялся и дружил...»), сиротство, не тождественное одиночеству, взаимоотношения со страной. Геннадий Русаков, родившийся в 1938 году, является одним из российских поэтов-долгожителей, которые активно публикуются. Старость – центральный лирический сюжет этой подборки. Она задаёт ракурс, определяет модус авторского высказывания. Индивидуальный опыт старения становится предпосылкой для общечеловеческих обобщений. Саморефлексия в значительной мере направлена на возраст: «Я всё живу. Мне тыща двести лет...» Говорящий окликает умерших друзей («Но я всего воспоминанье / о Цыбе, Глоточкине – тех, / кто нынче выше слёз и знанья»), фиксирует себя в онтологическом пространстве-времени («Живу на дальней кромке бытия»), перепроживает прежние утраты:
И не гожусь для жизни в этом теле.
Самоирония направлена на приметы возраста, снижая пафос, смещая фокус на внутреннее:
Короче – предотходный Русаков.
Образ страны, вырастающий из этого цикла, наполнен её пространствами, наложенными на пространство воспоминаний: «Пойду опять бездомною страной / от Есипово – в Грязи и к Терновке», «...И на Оке порой бывала рыба, / но где она теперь, моя Ока?». Иррациональность любви к неласковой родине – ещё один обертон этой темы:
(я лучшей не назвал её ни разу).
Рефлексия над идеей империи, реквием по распаду некогда огромной страны – одна из русаковских констант:
и вдруг куда-то прогремевшей мимо...
В финальном тексте интонационно однообразный цикл обретает иное, грозное звучание:
И выйдет солнце с искажённым ликом.
Признаки примирения с жизнью, принятия существующего положения дел – своего ли возраста, погоды ли, мира в целом («Мир так хорош, что аж до слез») здесь нивелированы. Речь идёт о конце времён. Катастрофические ожидания проецируются на природу. Эсхатологическая логика («вина людей – Божественное возмездие – гибель мира») обеспечивает профетический пафос высказывания.
Проза майского номера начинается с публикации романа Владимира Рецептера – поэта, прозаика, актера, режиссера, художественного руководителя Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге. Это мемуарная проза, воссоздающая литературный, театральный, интеллектуальный ландшафт эпохи. Заглавие романа «Тени. Лица. Голоса», вероятно, восходит к чеховскому «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было…» («Три сестры»). Авторская же интенция – сохранить былое, пока оно ещё живо в памяти. В текст органично включены мемориальные стихи, продолжающие диалог с ушедшими. Таковы поэтические портреты литературоведов Станислава Рассадина, Виталия Виленкина. В повествование вмонтированы дарственные надписи на книгах, письма Павла Антокольского, Арсения Тарковского, Бориса Чичибабина, встречи с Анной Ахматовой, Ираклием Андрониковым, Давидом Самойловым, Наумом Коржавиным, а также их суждения о стихах и ролях Рецептера (некоторый автороцентризм в такой прозе неизбежен). Иногда текст напоминает перепись архива – ларца с сокровищами, обещающего находки будущим исследователям.
Повествование носит коллажный характер; кроме фигуры мемуариста, его скрепляют сквозные мотивы – пушкинский и шекспировский, причём в одной точке парадоксально сведённые: «Я нерушимо убежден, что актерским гением изо всех современников обладал сам Пушкин и никто, кроме него самого, с ролью Гамлета справиться не мог». Загадка Шекспира («Ему повезло. Ему удалось скрыться», – сказала мне когда-то о нем Анна Ахматова») и его датского принца – объект рефлексии автора на протяжении всей жизни. В 1960-х Владимир Рецептер сыграл Гамлета в моноспектакле ташкентского Русского драмтеатра. Особый сюжет этой прозы – рецепция его легендарной роли современниками.
Первая часть романа – панорама культурной жизни с ее ключевыми фигурами, театральным закулисьем. Эпистолярная составляющая воспроизводит удивительную атмосферу уже мифологического времени середины-конца XX века, где насыщенная и напряжённая духовная жизнь была нормой, где люди, чуя «своих», легко сходились и были откровенны друг с другом. Окончание опубликовано в июньском номере «Нового мира».
Поэтическая подборка Светланы Кековой в майском «Новом мире» носит заглавие «Памяти Николая Заболоцкого». Два первых стихотворения этого мемориального триптиха навеяны поэмой Заболоцкого «Птицы», о чём сообщают и эпиграфы. «Птичья» тема у Заболоцкого одна из магистральных. В эссе, посвящённом юбилею поэта (материал этого номера), Татьяна Зверева замечает: «…птицы Заболоцкого – вестники других миров». Дятел (как, впрочем, и остальные птицы) Светланы Кековой обладает подобным свойством:
1. Дятел
ты небесной напьёшься водицы.
Увиденный через призму поверий и легенд, дятел наделён трагической судьбой. Если вначале это «кардинал неподвижного леса, / страж королей и деревьев», то в финале – «служитель высокого леса», кротко пьющий дождевую, «небесную водицу». Эта череда номинаций следует христианскому вектору смирения и отражает трансформацию оптики смотрящего: от внешних примет («в мантии чёрной и шапочке красной») к сущностному – к его взаимоотношениям с Творцом. Понятно, что личные, пусть и непростые отношения с Богом сами по себе придают жизни птицы сакральное измерение.
Второму стихотворению подборки также предпослан эпиграф из поэмы «Птицы»:
2. Cruz
Какую вы носите тайну?
Николай Заболоцкий
руки скрестить на груди – и готовить себя к Воскресенью.
Во втором стихотворении инобытийная природа птиц явлена во всей полноте: журавли уносят души усопших; аист опознан как «паломник крылатый»; синица приносит ключи от мира усопших (причём синица одновременно и заболоцкая и пушкинская: «Эта синица летала за синее море»). Сова – свидетельница Распятия, и навечно ранена этим. Светлана Кекова последовательно соотносит христианскую тематику с миром птиц. Все птахи так или иначе имеют отношение к Творцу, сопряжены с ним неочевидными (фольклорно-мифологическими, ассоциативными) соответствиями. Фигура святого, кормящего и гладящего по головке молодую синицу, сводит воедино реальный и метафизический планы текста: «знаю – Зиновий святой их у Божьего храма встречает». Святой Зиновий-Синичник видим не для всех, но о его встрече с птицами верующий просто знает априорным знанием, вне житейского опыта.
Коммуникация птиц с людьми осуществляется посредством вращения годового колеса. Птицы осмысляются как маркёры движения времени: осенний отлёт журавлей; зимующие синицы, снегири, свиристели; весенний прилёт аиста. Только сова выключена из смены сезонов, она видела Христа и потому пребывает в вечности. Происходит стяжение разных времён – мифологического совьего и синичьего, биологического времени человеческой жизни, ветхозаветного времени объятий («время обнимать, и время уклоняться от объятий» в Екклесиасте), природного времени, наложенного на церковный календарь. Календарный круг, размеченный птицами, содержит одновременно и вехи библейской истории. Распятье, Успенье, Воскресенье представляют мистериальный сюжет текста. Причём Воскресенье многозначно: в финале речь о весне, а значит, это празднование Пасхи. Жест скрещенных рук, с одной стороны, коррелирует с христианским таинством Причащения, с другой – с обрядом погребения. Эта интуитивно угадываемая, но неназванная смерть анестезируется праздничностью одежд, приберегаемых в сундуках для торжества. Скрытое здесь апокалиптическое чаянье всеобщего воскресения из мёртвых в едином акустическом пространстве майского номера звучит эсхатологическим эхом подборки Геннадия Русакова.
Завершающая часть триптиха Светланы Кековой обращена к фигуре самого поэта, минуя посредничество птиц.
***
...Он плачет так, что слушать нету сил...
Николай Заболоцкий
чтоб у крымских скал богородскую рвать траву.
Стихотворение вступает в диалог сразу со многими текстами Заболоцкого. Эмблематичный образ верблюда пришёл из поэмы Заболоцкого «Город в степи», узнаваемо и «Лицо коня» (1926). Упоминание святого Николая Сербского отсылает к переводам сербской поэзии, которые составляют часть творческого наследия поэта. Богородская трава имеет прямое отношение к строкам Заболоцкого, посвящённым Крыму: «Здесь время не спешит, здесь собирают дети / Чабрец, траву степей, у неподвижных скал» («Над морем»).
«Запечатав время юродивым словом дерзким / и в святыне сердца иную открыв главу…» – так метафорически осмысляется траектория духовной эволюции поэта, воплощённая в раннем («юродивое дерзкое слово») и позднем творчестве. Кстати, переход Заболоцкого от раннего творчества к поздней, «сердечной» лирике воспроизводит в какой-то мере и сам мини-цикл «Памяти Николая Заболоцкого». Первый текст Кековой вторит поэме «Птицы» (1933) не только тематически, но и технически – отсутствием рифмы, относительно свободным размером, близким к гекзаметру, и сопутствующей ему неспешной, обстоятельной нарративностью. Финальная же часть триптиха наследует скорее поэтике позднего Заболоцкого.
Таинственнее всего в этом лирическом сюжете выглядит попытка увидеть, «что за тем пределом». Идея о мнимости смерти неизменно важна для Заболоцкого, размышлявшего в стихах и письмах о формах личного бессмертия. Тема Воскресения, заданная предыдущим текстом, поддержана ожившей зимней мухой. Её пробуждённая теплом жизнь становится залогом, свидетельством, обещанием жизни души после смерти. Так вполне бытовая муха (не птица!) задаёт метафизический план текста. У посмертия Заболоцкого, согласно поэтическим интуициям Светланы Кековой, две версии. Первая – трансцендентное стояние над миром «как мысленный столп огня». Оно восходит к образу души из его ранней поэмы «Торжество земледелия»: «Она, как столбичек, плыла / С могилки прямо на меня / И, верю, на тот свет звала». Но более близкий претекст явлен в стихотворении «Вчера, о смерти размышляя»: «И я, живой, скитался над полями, / Входил без страха в лес, / И мысли мертвецов прозрачными столбами / Вокруг меня вставали до небес».
Представления о вертикальном восхождении души после смерти достаточно традиционны. Однако эфемерное состояние души по преимуществу репрезентируют пар или аморфный дымок. Столб же как форма существования энергии актуализирует понятие границ и отдельности, подразумевает автономию. Такое пространство мыслесферы (ноосферы) индивидуализировано, авторизовано, отмечено личной печатью. В отличие от дымка или пара, столбы – часть несущей конструкции в архитектонике мира. Помимо структурирующей и опорной функции, есть коммуникативная: канал связи между землей и небом, причём сверху тоже идёт сигнал. Что резонирует с фигурой поэта-провидца, медиума между вышним и дольним. Визионерское прозрение Заболоцкого оказалось применимо к нему самому. Однако у Светланы Кековой столб уже не воздушный, не эфирный, а огненный – человеческий дух в высших его проявлениях. Горение как метафора творчества отходит на второй план. Доминирует христианская идея горения как мученичества, подвижничества, она поддержана заменой «столба» на «столп». В житийной древнерусской литературе огненные столпы – знамения, свидетельствующие святость усопшего; зачастую их видели над князьями-страстотерпцами.
Вторая версия инобытия, представленная в финальных строках триптиха («он пустился в путь со святым Николаем Сербским, / чтоб у крымских скал богородскую рвать траву»), вызывает в памяти картину Михаила Нестерова «Философы», двойной портрет отца П. Флоренского и профессора С. Булгакова. Они ведут богословскую беседу во время прогулки по окрестностям Сергиева Посада. Их лица преображены той духовной работой, которая в них совершается, событие этой беседы происходит в вечности. Посмертная прогулка поэта со святым Николаем Сербским, как и огненный столп, даёт основания говорить о своеобразной канонизации Заболоцкого в мемориальном тексте Светланы Кековой. Пребывание в блаженном пространстве у крымских скал прочитывается как эквивалент рая.
Существование в одном тексте двух версий, двух типов инобытия имеет одно непротиворечивое объяснение: речь идёт о триединой модели человека – не душа плюс тело, а дух, душа и тело. В случае героя стихотворения после смерти происходит сепарация на тело («давным-давно почивая во гробе плотски»), огненный столп духа и, наконец, душу, путешествующую со святым по милым сердцу местам. Тайнопись Светланы Кековой – удивительное явление в современной русской поэзии.
В майском номере опубликована первая часть романа Александры Жуковской «Мать порядка». Экспозиция, как в пьесе, содержит характеристики главных героев, фиксирует хронотоп: «Место действия: крупный региональный город в альтернативном 2015 году». Экспозиция же размечает вероятные конфликты и конфигурацию любовных многоугольников.
Главный герой – Виталий Лопатко, лидер анархической организации «Черная гвардия», «учитель русского языка и литературы, бунтарь, анархо-коммунист, прямолинеен, безапелляционен, несколько наивен». В завязке романа он попадает в камеру по доносу. Кто-то из тех троих, кому он всецело доверяет, выдал властям план протестной акции в здании Минюста. Сидя в камере, Виталий обдумывает случившееся. Так задана детективная составляющая романа. Для читателя, который тоже участвует в расследовании, поиск предателя организован с помощью исповедальных монологов соратников Виталия. Нарративы от первого лица каждому дают возможность выговориться и оправдаться. Чередование голосов задаёт динамику текста. Одна история глазами разных ее участников не имеет однозначной трактовки. Это и вопрос доверия личным свидетельствам. Сама же молодая партия балансирует на грани раскола: неоднородны мотивы, по которым каждый пришёл в организацию. Различны и направления в анархизме, которых придерживаются герои: Гуревич идентифицирует себя как анархофеминистку, Лопатко – анархо-коммунист, Балканов анархо-капиталист с либертарианским душком. Что касается третьей подозреваемой, Сентябрёвой, её мировоззрение – смесь анархизма с христианством, исключающая насилие. В романе нет драмы идей, но есть база для идеологических споров о сущности анархизма.
В первой части «Матери порядка» значительное место отведено историям о травмах детства. У Сентябрёвой и Лопатко матери-абьюзеры и ранний опыт отчуждения, Гриневич ненавидит государство за два года в детдоме после гибели родителей. Даже благополучный, из любящей семьи Балканов носитель детской травмы – насильное кормление в детском саду он считает днём, когда стал анархистом. Сверх того, в женском трио свои специфические раны. Сентябрёва считает себя глупой, Гриневич считает себя уродливой. Всё в порядке с самооценкой только у силиконовой куклы Мары Мяу, гражданской жены Виталия («Зарабатывает мукбангом (поеданием пищи на камеру). Сексапильна, глупа до гротеска»). Но её вечные капризы и истерики мелочь в сравнении с тем, что носит в себе Гриневич под ментальными блоками, которые никогда не сдвинуть. Бэкграунд героев (возможно, вопреки авторскому замыслу) постулирует мысль: нормальный человек со здоровой психикой в анархисты не пойдёт.
Речевые маски героев гротескны. Балканов, которого главный герой не без оснований подозревает в русофобстве, говорит на «пиджн-инглиш», переходящем в сленг. Речь катастрофически неуверенной в себе Сентябрёвой максимально засорена лакейскими словами-паразитами: «если можно так выразиться», «так сказать», «сами понимаете», «извините за выражение». Гриневич отыгрывает амплуа злой, умной, некрасивой еврейки из бедной семьи, в её нарративе много ругательств, транслирующих раздражение и цинизм. Сам Лопатко демонстрирует творческое, ассоциативно-образное мышление (последствия педагогического образования?) Лицам соратников по анархической борьбе в его воображении соответствуют зооморфные маски: Сентябрёва корова, Балканов бык, Гуревич крыса. Цитаты из есенинского стихотворения «Лисица» бесшовно впаяны в его монолог.
Образ животного, попавшего в капкан и отгрызающего лапу ради свободы, – сквозной в романе. Разговор об идеях анархизма устами носителей или реципиентов этих идей позволяет избежать излишней риторичности и удобен для рефлексии «изнутри» над природой власти, над границами свободы, над концепцией меньшего зла. Окончание романа опубликовано в июньском номере.
Поэтическая подборка Андрея Анпилова в майском номере озаглавлена «Обычных вещей голоса». В ней различима оглядка назад, ностальгическая нота: «В светлых днях, бузиною заросших, / В том столетии в тихом году». Контакт с прошлым устанавливается посредством «ветхих» писем или выцветших фотографий («И светлая карточка щурится слепо»), которые запускают механизмы воспоминаний. Хрупкость свойственна самой памяти: «И память желтеет, крошится, как фото». Процесс утраты воспоминаний и встречный процесс – усилие припоминания двигают этот лирический сюжет. Приметы прошлого перечислены и зафиксированы в интенции сохранить их, не дать работе забвения завершить начатое.
Рефлексия над минувшим приводит лирического героя в пространство «невзрослой вселенной». Оно трансформировано любовью, с которой говорящий вглядывается в быт и бытие своего детства. Сердечное зрение затуманивают слёзы:
Надеждой на счастье и песней знакомой.
Темы старости и детства сближены в этой подборке. Как писал главный герой майского номера, Николай Заболоцкий: «То, что могут понять / Только старые люди и дети». Речь идёт об особой детско-старческой оптике, позволяющей за наносным и внешним видеть суть, об онтологическом понимании жизни и смерти, где первоначальные интуиции о мире и опыт уравнены в правах. Вот как увиден старый художник: «Тихий голос, святая рука, / Проницательный глаз старика». В стихотворении «Не скоро служба кончится» сонное медитативное сознание ребёнка воспринимает происходящее в храме и за его пределами как единый поток жизни, в котором внезапное появление бабочки – чудо, но и закономерность: «обычный ангелок».
* * *
Там, где всего теплей.
В другом стихотворении ангелом станет не бабочка, а синица:
Ответит – спасение есть.
Хранящая оберегающая сила, которая присутствует в мире, названа: «Будь у Бога, душа, под приглядом». Христианские смыслы этой подборки не всегда явлены напрямую. Они ощутимы в жесте милосердия – похоронить мёртвого дятла («В летней тени, полускрытый травой…»), в отказе делить погибших на своих и чужих («За своих, говорит, только сердце болит?»), в перечитывании писем умерших родителей.
«Иван»
С пылью и ветхое имя моё.
Говорящий перечитывает письма из семейного архива, раз за разом пытаясь разобрать что-то важное в личной истории – истории собственного рождения. Это поиск истока: где и как за бытовыми подробностями даст о себе знать то провиденциальное, что несомненно относится к выбору имени. Тайна неназванного в буквальном смысле, как она есть. Здесь опять явлена игра с резкостью, но причиной тому не слёзы, а тающие выцветающие буквы. Попытка их разобрать как попытка совпасть с собой: «Почерк стоит последней стеной / Между мною и мной». Отношения с прошлым до присвоения имени выстраиваются как жадное вглядывание туда, где всё нечётко, всё плывёт, всё только «интенции и потенции» (А. Секацкий). Самоидентификация, связанная с именем, начинает мерцать: он немного Иван в ту минуту, когда читает. Тряпка смахнёт имя Иван, отвергнутое матерью, а с ним не воплотившуюся, другую судьбу. Но и часть реализовавшейся судьбы, часть личности говорящего сотрётся вместе с этим взмахом, отсюда горечь авторской интонации.
Публикация двух рассказов Евгения Тищенко – дебют автора в толстых журналах в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России. Первая история – «Куда мне тащить эту ёлку?» Молодой человек занимается ёлочным бизнесом, приносит людям праздник. Однако настроение не созвучно близящемуся торжеству. Вот герой едет в метро, везёт очередную ёлку заказчику: «Ехали-то кажется не так долго, но жить хотелось все меньше и меньше, когда я представлял в голове картину: белый снег, серый лед и питерские постройки». Признаки петербургского текста не исчерпываются депрессивной визуальной составляющей. Герой испытывает отчуждение, его социальные связи сведены к минимуму. Бессмысленность существования, сама циркуляция живого вещества в мире раздражают его: «Цикличность всех действий меня пугала, но человеку всегда тяжело выходить из знакомого круга. Смотря на других, понимал: не я один в этом круговороте и не я один повторяю те же самые действия, что и в прошлом году. <…> Я каждый год вижу эту суету. Бег, бег, бег. Откуда, куда и зачем?»
Рассказ Евгения Тищенко в известной мере переосмысливает старую жанровую традицию. Хронотоп классического святочного рассказа соотносится с Рождеством или Святками. В русской прозе время событий зачастую сдвигается на канун Нового года. Текст напрямую апеллирует к главному атрибутивному признаку этого жанра: «Но все мы знаем, что Новый год – это время чудес». Однако чудеса в Питере своеобразные. Герою открывает дверь заплаканная девушка и отказывается от ёлки, ей не до праздника: умер отец.
Дверь квартиры с гробом закрывается. Стоя в подъезде у окна, за которым резвятся дети, герой как бы замирает в раздумье: «Я подошел прямо к окну и увидел, как на санках ездят дети, а рядом бегают их родители. Что-то заставляет их циркулировать. А у меня как-то не получается заставить себя. Хотя чем это не циркуляция – заниматься каждый Новый год одним и тем же? Не знаю. Помню лишь, что я глядел в окно. <…> Я продолжал смотреть на падающий снег и людей во дворе. Гирлянда освещала мое темное лицо в одиноком коридоре».
Духовная метаморфоза героя, если она таки случилась, большей частью осталась за кадром повествования. Однако это молчание и созерцание красноречивы сами по себе, как миг экзистенции. Бесцельное стояние у окна знаменует сход с устойчивой орбиты, сбой автоматизма. Герой увидел мир иным – странным, простил его праздничное состояние, признал его право на витальность. Это и есть чудо. Даже эманации петербургского текста не способны бесследно нейтрализовать рождественское волшебство.
Второй рассказ Евгения Тищенко озаглавлен «Мимо гроба». Студент приезжает в гости к родителям в родной город. Во время его пребывания в соседнем доме кто-то умер: с балкона «открылся вид на заполненный двор, который пересекал огромный дубовый гроб. На все 30 метров этого несчастного двора растянулось деревянное изделие с железными защелками…» Снова топос гроба, я-повествование и сходное отчуждённое мироощущение героя. Но если в первом рассказе сдвиг привычного вызван событием чужой смерти, оно вытаскивает героя из бессмысленного круговорота, то здесь сдвиг присутствует сразу. Герой погружается в безумие, но сначала это можно отнести на счет индивидуального, подчеркнуто болезненного восприятия мира. Диффузия между нормальным состоянием и ненормальным состоянием нарастает исподволь. Мир отредактирован таким образом, что его детали противоречат друг другу. Вот странность в описании старухи: «мерзкие болотные глаза, которые были карего цвета». Вот неуместные ассоциации плюс нарушенная логика в описании гроба: «По моим ощущениям, он был настолько большим, что на его крышке можно порезать колбасу, не поцарапав ножом деревянной поверхности. Качество…»
Абсурдно длинный гроб с длинной, растущей в нём девочкой обретает статус кошмара. Охваченный ужасом, герой пытается попасть домой, но его не пускают в подъезд родители, внезапно ставшие если не враждебными, то чужими и странными. Доступ к чуду обновления возможен только через гроб. Пролезая под ним (инициируясь смертью), герой наконец вырывается и бежит. Побег равен освобождению, но и окончательному отказу от рацио. Финал регистрирует бедственное состояние сознания нарратора, которое провалилось в зазор между сном и явью, безумием и нормой. Туман выступает как метафора неуверенности героя, иллюзорности мира: «Меня вынесло в город. Я бежал, бежал бесцельно. Мимо меня и моего сознания пробегали деревья, дома, люди, солнце, дождь, ливень, град, дома, дворы, туман и снова – станция, которая, быть может, приснилась мне. И этот туман в придачу, и этот ливень, который рассекал меня ногайкой своей, взявшейся бог пойми откуда. И этот гроб, который я видел, кажется, во сне. Но этот сон был длинней меня. А меня в тот день не было, но был туман. И было холодно».
Короткая дебютная подборка верлибров Ивана Сорокина в майском номере озаглавлена «Ангел памяти» и выглядит контрастно в смысловом пространстве номера: поэты-носители «взгляда старости» уступают место юности. Говорящий калибрует мир с точки зрения поколенческой оптики. Оппозиция «ребёнок(подросток)-взрослый» полемически заострена, эти миры онтологически противопоставлены. Взрослый мир – мир конформизма, умолчаний-замалчиваний. В стихотворении «Детство кончилось» идёт речь о двух типах реакции на попытки суицида влюблённых девочек-подростков. Реакция взрослых: «Учителя молчали и отводили взгляд». Реакция подростков косвенно явлена в самом факте говорения об этом, в двойном «Помнишь?» Встреча с событием чужой любви и событием чужой смерти (пусть даже незавершённой) продолжает тревожить, потому что не была проговорена или осмыслена как должно.
Поэтическое высказывание Ивана Сорокина отслеживает традиционные авторитарные практики. Оспаривается сам патриархальный порядок, при котором иерархия людей зависит от возраста. Отсюда попытка переписать детство, смоделировать альтернативное прошлое:
НЕТ
Объект авторской рефлексии – потеря контакта с родителями, разрыв эмоциональных связей. Родительские фигуры выступают как источник непрямого насилия, психологических манипуляций. Отстраненный и одновременно пристрастный взгляд говорящего фиксирует родительские черты:
Когда она злится.
В одном из стихотворений безымянного мини-цикла неприязненная интонация, скепсис обусловлены фальшью мира взрослых. Благополучная семья, ребёнок занимается плаваньем:
* * *
И всё же.
«Очаровательная плитка на полу в ромбик» – сказано с чужого, взрослого голоса (неуловимо и внезапно меняется субъект говорения). И это каким-то образом обнажает суть: ребёнок просто ненавидел «очаровательную плитку» в бассейне, равно как и хлорку, и холод раздевалки, равно как и само плаванье. Вероятная причина – ожидания, направленные на мальчика, страх не соответствовать родительским амбициям: «Будущность давит на узкие плечи». Здесь тема эмоционального насилия, бесправности ребёнка артикулирована опосредовано и вместе с тем убедительно. Финальное «и все же» воспринимается категорично и неотменимо, как обвинительный приговор. (Ср. у Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины / В том, что другие не пришли с войны, / В том, что они – кто старше, кто моложе – Остались там, и не о том же речь, / Что я их мог, но не сумел сберечь, – / Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…»)
* * *
Научи их стучаться
Появление именно такого ангела предопределено всем движением лирического сюжета подборки. «Запаянные уши» – гарантия верности себе и своему, способ отключаться от враждебного внешнего. Иван Сорокин рассказывает историю об отстаивании личных границ, о степенях свободы.
В майском номере представлена проза уральского драматурга Николая Коляды – рассказ «Сосямба». Главный герой – таксист, простой уральский мужик, терпеливый и спокойный. Повествование охватывает несколько часов жизни Михаила: от ссоры с женой до поездки на дачу, где находится источник семейного конфликта – маленький старый деревянный дом. На его продаже настаивает супруга. В ход идут скандалы, манипулирование отцовским долгом, шантаж разводом. Рефрен «Чертова сосямба… Все из-за тебя. Вся жизнь сломана…» адресован жене, но к Михаилу в принципе несправедлив мир: не дали вести бизнес, сделали крайним в аварии. Даже местные алкаши, которых он нанимал строить забор, многократно обворовывают дачный домик. И всё же главное – распад родственных связей: непонимание и отчужденность жены, поколенческая пропасть между Михаилом и сыновьями, его одиночество в семье.
И все ругались и ругались с утра до ночи».
Короткие предложения с красной строки задают размеренное дыхание текста, отвечают за особую весомость каждого слова. Коляда повторяет фразы на разные лады, как будто на слух подбирая нужную интонацию: «Дурак народ пошел. Какой дурак пошел народ». В его прозе значима установка на живой голос, на разговорную речь с её прибауточками: «Ветер в харю – а я шпарю» или:
Гори все гаром».
Топос дома в художественном мире Николая Коляды никогда не нейтрален. В любви Михаила к домику, «который был как у родителей в его детстве», есть что-то иррациональное, но национально понятное. Здесь и любовь к умершим родителям, и потребность в автономном пространстве, и тоска по истинному дому. Вокруг топоса дома сгущается сентиментальный пафос. Сама цель поездки – прощание с домом выводит текст в чеховское пространство, к реплике Раневской: «В последний раз взглянуть на стены, на окна». Напор людей, стремящихся всё монетизировать, неостановим: и героиня Чехова, и герой Коляды проигрывают борьбу за дом.
В финале живой дом в сознании Михаила трансформируется в мертвеца, с которым следует поступить особым образом. Мытьё-обмывание одновременно бессмысленно (дом пойдёт под снос) и осмысленно, как часть ритуала прощания. Утрату дома предстоит отгоревать, лёжа на пшеничном поле, потому что вместе с ним Михаил теряет ту часть себя, которая связана и с родной землёй, и с детством. «Пластмассовый мир победил» (Е. Летов).
– Домик мой милый, любимый, домик мой родной…»
Поэтическая подборка Глеба Шульпякова в майском номере озаглавлена «Слепок». Вектор движения в ней преимущественно вертикальный: листопад, снег, восходящие-нисходящие потоки («кровь…по деревянным капиллярам»), энергообмен между небом и землёй. Частично скомпрометирована устремлённость вверх в одном из стихотворений. Это подражание античной эпической поэзии:
взрезывать гнутым, чем светочи на небе числить
Однако стратегия сугубо земных (буквально земляных, аграрных) дел, призыв «не возвышаться умом беспокойным» соотносятся с несвободой человека. Лживые боги, персонифицирующие власть рока, по прихоти разрушают судьбы смертных.
В первом стихотворении подборки акцентирован как раз взгляд наверх. Говорящий не просто «числит светочи на небе». Небесное определяет картину мира:
* * *
в лесу нетопленом, пустом
любая буква алфавита
покрыта шерстью и пером,
и дверь за деревом открыта
– пока не смешана с водой
и небом глина под ногами,
есть только звуков разнобой
в разрывах между облаками
но будет кровь и гул в крови
по деревянным капиллярам
и руслам рек, и свет в крови —
осенний свет, отец пожарам,
в огне которых золотой
и кривобокий плавлен слепок,
облеплен пеплом и золой,
и тускло светит между веток
– лесное небо! доски слов,
полей нетронутых равнины,
но безымянен мой улов
и красен круглый лист осины
Раз номер посвящён Заболоцкому, уместно вспомнить его уподобление леса дому в «Осени»: «Осенних рощ большие помещения / Стоят на воздухе, как чистые дома». Сквозное пространство осеннего леса у Шульпякова бесприютно («в лесу нетопленом, пустом»), и всё же открытая за деревом дверь – приглашение, в том числе в пространство стихотворения. Соотнося лес с домом, Шульпяков приближает неприручённый, «нетронутый» мир к человеку, делает их сомасштабными.
Лес как алфавит – часть постмодернистского концепта «мир есть текст», хорошо разработанного в русской поэзии. У Глеба Шульпякова в стихотворении 2021 года это сближение уже встречалось, и надо думать, речь шла об обилии вертикальных линий: «как этот алфавит похож на лес / и как болит во мне его надрез» («как подлинно, как зримо всё живое»). Здесь иное: животные – алфавит леса. Язык, которым говорит природа, или способ её говорения. Один из способов, потому что ещё есть «доски слов», «звуков разнобой / в разрывах между облаками» и «гул в крови / по деревянным капиллярам / и руслам рек». В звуковой картине леса намечен первый контрапункт с «Осенью» Боратынского, где «Умолкли птиц живые голоса, / Безмолвен лес, беззвучны небеса!»
Пульс осеннего состояния мира задан и метафорическим рядом огня, причём огня негреющего. Речь не только и не столько о цвете листвы. Осень внезапно обнажает огненную природу мира. С учётом леса-алфавита здесь проступает гераклитовский Логос, внутренний огонь вещей. (Возможно, в этом суть других образов холодного горения в подборке: «снежное мелькание огня», например). Среди светящихся объектов стихотворения специфичен образ несовершенной, как будто рукотворной, свежевыплавленной луны: кривобокий слепок «облеплен пеплом и золой». Это ночное светило из золота контрапунктирует золотой луч дневного светила «Осени» Боратынского, с сохранением аллитерации на «л» («Сияньем хладным солнце блещет, / И луч его в зерцале зыбком вод / Неверным золотом трепещет»). Слепок, давший название всей подборке, имеет прямое отношение к диалогу двух текстов об осеннем лесе. Определение: «Слепок – копия какого-либо предмета, произведения скульптуры и т. д., отлитая в форме, которая снята с оригинала». Причём оригиналом может считаться как претекст Боратынского, так и сам первообраз осени.
Финальная строка дословно цитирует «Осень» Боратынского, вплоть до рифмы «осины-равнины» («Росой затоплены равнины; / Желтеет сень кудрявая дубов, / И красен круглый лист осины»). Неочевиден смысл предшествующей – «но безымянен мой улов». Здесь явлен особый тип взаимодействия с лесом: шаман-друид-медиум, а не охотник-колонизатор. Безымянный улов – не птица и не зверь: они алфавит, они не безымянны. Говорящий приносит из леса будущее стихотворение (ощущения, мысли). И, возможно, этот самый красный лист осины. Вот его добыча. В отличие от философской лирики Боратынского, где многое артикулировано, у Шульпякова экзистенциальные вопросы как бы повисают в осеннем воздухе. Остаётся гадать по книге природы: вслушиваться, считывать знаки.
Два стихотворения подборки исследуют ассоциативную, нелинейную природу памяти. В одном из них экспозиция восходит к японской поэзии. Первые три строки самодостаточны в своём минимализме и эстетической завершённости:
* * *
за ночь опустилась к чёрной воде.
Озеро. Пляж. Осень.
Площадка для волейбола –
следы от голых пяток.
Удар, ещё удар.
Сетка.
Игра отложена.
Разноцветные скамейки
смотрят в пустое небо,
в котором навсегда застрял
невидимый мяч.
Слуховая память
переигрывает зрительную.
Музыка и смех на пустом пирсе.
Плеск нетронутой воды.
Горячая доска почти не скрипит
под лёгкими шагами.
Шипение газировки.
Зажигалка.
Выдох – и я открываю глаза.
Но вместо голых гибких тел
два рыбака в застывших позах
ловят в тёмной глубине времени
чужие воспоминания.
Тесный визуальный ряд раскадровывает историю, которая из настоящего вдруг неуловимо соскальзывает в прошлое, становясь в финале историей любовной. Точнее, историей об утраченной любви. Лирический сюжет движим звуками: музыка, плеск воды, скрип доски, шипение газировки активизируют некое личное воспоминание. Звуки-триггеры ответственны за эффект актуального присутствия говорящего в его прошлом. Выдох и открывание глаз переключают регистр присутствия на регистр отсутствия, возвращают план настоящего. Но «здесь и сейчас» уже неуловимо иное, остраненное этим иммерсивным опытом. Фигуры рыбаков маркируют изменившееся время и пространство.
Здесь также значима идея отпечатка, слепка – как материального (оттиск пяток на песке), так и некоего нематериального следа, который оставляют вещи из прошлого в пространстве: «…в пустое небо, / в котором навсегда застрял / невидимый мяч». Происходит нащупывание границ того, что уже отсутствует в модусе настоящего: считывание исчезнувшего объекта, прошедшего события. Ближайший аналог этой (в сущности, метафизической) идеи воплощён в знаменитом стихотворении Ивана Елагина:
Что комнатою звался угловой.
…
Пропавшего навеки этажа».
Другое стихотворение Глеба Шульпякова исследует память через образный ряд, где «нездешний» листопад, закрученный спиралью, актуализирует инобытийный план:
* * *
посвети мне фонариком, выхвати
побелевший от холода куст –
это память с вещами на выходе
неразборчива стала на вкус
чьи-то санки в подъезде украдены
луч фонарика бьёт наугад
есть такие у памяти впадины,
где нездешний шумит листопад
и слетает, спиралью закрученный,
тишину издавая во мгле
безымянный и малоизученный
к бесконечно знакомой земле
Концепт памяти как упорядоченного хранилища информации давно дискредитирован, и не только в поэзии. В этом тексте коммуникация с собственной памятью оказывается встречей с неизвестным. Текст репрезентирует память как неравномерно освещённое пространство, сложный ландшафт со впадинами. Разрывы и пробелы памяти соответствуют непоследовательному и фрагментарному развёртыванию прошлого. В его воспроизведении нет логики, нет иерархии, есть случайное блуждание луча в темноте и случайные же находки: «Чьи-то санки в подъезде украдены». Говорящий и сам растерян. Деятельный активный поиск инициирован им самим: «Посвети мне фонариком». Но это не делает работу памяти результативнее: луч фонарика всё равно «бьёт наугад».
Листопад – конвенциональная метафора бренности жизни вообще. Но шульпяковский листопад особой сборки: он о ненадёжности памяти, он «нездешний» и он закручен спиралью. Перед нами некая динамическая модель, в которой энергия пружины умножена хаотичным вращением-кружением дискретных частиц. Спираль – это в некоторой степени и конус-рупор, несущий сообщение. Транслятор одновременно шумит и издаёт тишину. Получается минус-акустика, странное гулкое пространство. Листопад «безымянный и малоизученный», сообщение не поддаётся раскодировке. То, что исходит сверху, нефиксируемо, неформатируемо, сродни мандельштамовскому определению «безотчётного неба игра». И тем не менее попытка вопрошания, напряжённое вслушивание в инобытие – определяющая интенция этого текста.
Любопытная и исчерпывающая публикация «Известная. Неизвестная – Иван Крамской» – детальное расследование о том, кто мог быть прототипом загадочной незнакомки. Это эссе из новой книги Анны Матвеевой «Картинные девушки. Продолжение», посвящённой судьбам натурщиц известных художников. Письма самого Крамского, документальные свидетельства современников, архивные материалы позволили создать очерк творческой биографии художника, не упуская из виду главное – тайну знаменитого портрета. Цитата: «Слезы стоят в глазах «Неизвестной», наблюдающей за тем, как художник пытается служить чужой музе, не признавая своей. Она, «Неизвестная», – и есть та самая муза, аллегория искусства, символ продажности с одной стороны – и непорочной чистоты с другой. Она – та, к кому стремилось сердце Крамского, обещавшего себе однажды бросить ненавистные заказы и написать то, чего просит душа. Но душа его была именно в портретах. И «Неизвестная» об этом знала лучше всех».
Подборка Вадима Месяца «Последнее танго» завершает поэтические страницы майского номера. Полистилистичность текстов сбалансирована единой любовной тематикой. Утрированный мелодраматизм заглавия поддержан коллизией мужского и женского, экспрессией диалога. Это прямые обращения к адресату речи: «Ты – моей жизни солнечный кусок». Поэтическое высказывание зачастую сопровождается активным речевым жестом, побуждающим к действию или бездействию: «…побудь на прощанье самой собою / в пожаре рябины и бересклета», «А ты пригласи на наш вечер Сашу». Особенность большинства текстов – плотная событийная основа. Нарративность, которая сопровождает рассказывание личных историй, помещает их на жанровый стык городского романса (иногда жестокого) и лирической баллады.
Автор говорит из-под маски. Лирический герой этой подборки циничен и романтичен одновременно, и в этом тайна его харизмы. Любовные истории, рассказанные Месяцем, лишены иллюзий и, кажется, счастливых финалов. Его герой в них не нуждается: «Мне скучно быть любимым и родным». Он любит жизнь и любит её испытывать, погружен в свои ощущения: «Я увлечён побегом и погоней». Иронична его самоидентификация: «Самодур, толстосум, / завсегдатай ночного секс-шопа».
Аксиологический статус любви в этом художественном мире колеблется: от неприкрытого цинизма («Любовь на полчаса всегда – до гроба») и профанируемого, ложного пафоса («И возле ратуши винил трещал уныло. / Когда я так тебя любил. И ты любила») до платоновского откровения: «Любовь, какой она бы ни была – / всего лишь вызов старости и смерти, / что впопыхах рассеивает мрак». Любовь как способ противостоять угасанию витальности, конвертировать уходящую женственность репрезентирует стихотворение «Бабье лето», обращённое к стареющей женщине: «Ты похорошела за это лето. / Бери молодого, пока не поздно». Рефлексия над возрастом продолжается в двух верлибрах подборки – «На чистую воду» и «Богемные дамы». Это суховатые, безэмоциональные, антилиричные тексты, интонационно близкие документалистике, без художественных излишеств. И там, и там появляется фигура молодого «тренера», в оппозиции к немолодому нарратору, поэту/художнику:
летящих со всех концов света.
Безжалостный социальный портрет определяет этот тип женщин как инфантильных эгоистичных существ, за благородными мотивами скрывающих стремление к личной выгоде. Причастность к миру искусства не является индульгенцией, скорее наоборот. По большому счёту, художница-самозванка нелегально оказалась в нём. Сарказм говорящего понятен. Интонация сочувствия же обусловлена точкой обзора: он видит судьбу своей героини в развитии, но и в целостности, предугадывая невесёлый финал.
Стихотворение «Последнее танго», давшее заглавие подборке, является проводником галльского духа, французского изящества, легкости, стиля в контрапункте с возрастной коллизией:
до боли знакомая роль.
Здесь ощутим буржуазный привкус, эстетика начала прошлого века, элегантный и трагический жест в духе «Прощального ужина» Вертинского («Я знаю, даже кораблям / Необходима пристань. / Но не таким, как я! Не нам, / Бродягам и артистам!»). Помещая любовную историю в мир театрального закулисья, Вадим Месяц актуализирует весь шлейф культурного мифа о любви к холодной женщине, профессионально играющей любовь. Игровая стихия вмешана гомогенно в лирический сюжет. Лицедейство с его бутафорскими чувствами, антураж – зеркала гримёрки задают условный, неподлинный модус существования богемной пары. Травестийно-шутовское поведение героя соответствует «жизни в водевиле». Комплекс любовных мотивов (измена, разлука, отречение, жертва, отказ от возможного счастья) редуцирован, поскольку это хроники отчуждения. Текст фиксирует стадию перерождения любви в ненависть («холодную месть») и её симптомы – перечень обид и разочарований, опись вложенного и неокупившегося.
В последнем пассаже театральный контекст уступает место кинематографическому, но суть не меняется: герою предстоит играть «до боли знакомую роль». Ещё один случай возрастной рефлексии в подборке Вадима Месяца: упоминание «Последнего танго в Париже» видится шансом сбежать из своего старения в чужую молодость. В этом раздельном будущем бродит дух неодомашненного неконвенционального существования («дики и бесстыжи»), варварского и первозданного, всего того, что внутри самого героя сопротивляется остепенению-окостенению. Саморазрушительное начало, упоение гибелью, залихватская удаль на грани с отчаяньем – финал допускает и такое прочтение.
Завершает художественный раздел майского номера глава «Шукшин в 1967 году» из книги Евгения Попова, Михаила Гундарина «Василий Макарович». Цитата: «1967 год был для Шукшина особенным – за 15 лет пройдя путь с самого социального низа, он благодаря своей энергии, таланту и везению оказался в составе советской элиты. Так сказать, в числе персон высшего среднего или даже низшего высшего класса. Именно 1967 год это подтвердил. Но самое главное, как раз в этом году появились первые шукшинские рассказы зрелого периода – возможно, самое главное, что он сделал для русской литературы. Напечатаны эти рассказы были именно в «Новом мире».
В юбилейном разделе опубликованы итоги Конкурса эссе к 120-летию Николая Заболоцкого со вступительным словом Владимира Губайловского. Одиннадцать текстов посвящены различным аспектам творчества поэта, их авторы – как известные филологи, профессиональные литераторы, так и люди других профессий.
Особняком в юбилейной рубрике стоят статьи Игоря Вишневецкого «О «природе» в русской поэзии и у Заболоцкого в частности» и Игоря Сухих «Вселенная Заболоцкого: между Андромедой и Солярисом».
В рубрике «Опыты» помещены «Три заметки о Пушкине» Леонида Карасева: «Онегин и Татьяна. Письмо с вариантами», «О «необязательном» в пушкинской прозе» и «Русский бог». В рубрике «Рецензии. Обзоры» представлен отклик Андрея Ранчина на книгу О.В. Богдановой, Е.А. Власовой «Поэтические миры Иосифа Бродского». Исследователь отмечает, что в книге соседствуют «…обескураживающие и непростительные ошибки и примеры виртуозного анализа и проницательного толкования».
Рубрика «Книжная полка Дмитрия Бавильского». В поле зрения критика попали следующие книги: Питер Акройд «История Англии. Расцвет империи: от битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории»; «Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения 1942–2021», коллективная монография под редакцией Сергея Фокина; Хэл Фостер «Компульсивная красота»; Наталья Ласкина «Время Пруста: Читательский путеводитель»; Татьяна Синецкая «Творчество композиторов Южного Урала» (в двух книгах); Елена Соловьева «Метод Коляды» и др.
В разделе «Библиографические листы» две рубрики. Раздел «Книги» знакомит читателя с новинками: «Визуальный клей» Андрея Горохова, «Как умирают машинисты метро» Дмитрия Данилова и «Современная российская поэтология и проблема экфрасиса» Александра Житенева. Раздел «Периодика» (составитель А. Василевский) предлагает обзор значимых публикаций следующих изданий: «Волга», «Вопросы литературы», «Горький», «Достоевский и мировая культура», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Коммерсантъ», «Литературная газета», «Литературный факт», «Лиterraтура», «Москва», «НГ Ex libris», «Новое литературное обозрение», «Новый берег», «Формаслов», «Четырехлистник», «Юность», «Prosоdia».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети