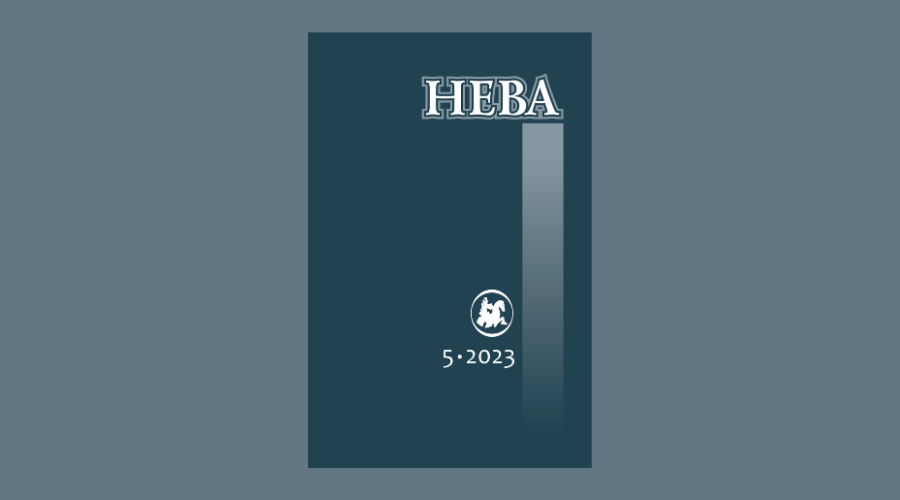«Нева» № 5, 2023
Литературный журнал «Нева» издаётся в Санкт-Петербурге с 1955 года. Периодичность 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Печатает прозу, поэзию, публицистику, литературную критику и переводы. В журнале публиковались Михаил Зощенко, Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Владимир Дудинцев, Василь Быков и многие другие.
Главный редактор — Наталья Гранцева, зам. главного редактора - Александр Мелихов, шеф-редактор гуманитарных проектов - Игорь Сухих, шеф-редактор молодежных проектов - Ольга Малышкина, редактор-библиограф - Елена Зиновьева, редактор-координатор - Наталия Ламонт, дизайн обложки - А. Панкевич, макет - С. Былачева, корректор - Е. Рогозина, верстка - Д. Зенченко.
Что делать с тем, кто виноват?
В центре номера – исторический вопрос о «чужих» и «своих». Так уж сложилась история России в ХХ веке, что львиная доля конфликтов пришлась на междоусобицы, рознь между близкими людьми. У Тараса Бульбы было двое сыновей, оба погибли не без участия своего родителя, и чем мы старше, тем больше задумываемся, не последствия ли всё это отцовского «воспитания»? Герои произведений выпуска тоже находятся в непростых жизненных ситуациях. Елена Крюкова повествует о двух соотечественниках с одинаковой профессией, двух хирургах, которые подвергались политическим репрессиям за несовместимую с советской властью деятельность – проповеди православия и, видимо, выполнение клятвы Гиппократа в том числе в отношении врагов. В тексте возникает вопрос о том, что есть добро и зло, кто наш ближний, каков наш истинный долг? Александр Юдин рассказывает о других «внутренних врагах», но уже настоящих – сектантах-людоедах XIX века, тем более опасных, что верховная власть всячески старалась замалчивать наличие самой проблемы. Будучи частью простого народа, тайно чудь белоглазая поддерживала остатки языческого культа, требовавшего для гекатомб невинных девиц. Михаил Лидогостер представляет мистическую новеллу о еврейской девушке Дине, погибшей в годы Большого террора на полигоне под Москвой: здесь освещается тема ответственности за преступления прошлого, часто не только безнаказанные, но и воспринимающееся как «ничего особенного, время было такое». Сергей Зельдин в качестве источника всех бед видит мещанскую психологию, духовное оскудение. Взгляд на жизнь как на возможность комфортного потребления приводит к деградации личности. Потребность в спиртном растет, пустые разговоры заполняют время, мечты ничего не делать и деньги получать становятся все ярче по мере приближения преклонного возраста, а телевизор и вовсе заменяет не только природу, но и Всевышнего. Подобное явление в масштабе способно нанести государству большие разрушения, нежели любой внешний и внутренний враг, кстати, кто же этот развратитель? Денис Липатов показывает нам историю древнего рода Сумароковых, тех самых, когда-то славных и привечаемых царским двором, а ныне выродившихся окончательно, но все еще надеющихся на «психологический капитал» своих предков. Публицист Дмитрий Зиновьев затрагивает малоизвестные архивные документы времен Великой Отечественной войны и немецкой оккупации, доказывая, что планировавшееся поголовное истребление населения Ленинграда не подпадает под определение геноцида, как оно понималось в 1946 г. в рамках расовой дискриминации. Александра Созонова рассказывает о своей переписке с известной четой философов Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной, в приведенных письмах мы можем прочесть рассуждения супругов об апостоле Павле, Данииле Андрееве, Елене Блаватской и других духовных лидерах.
В качестве наиболее запоминающихся вещей номера можно назвать поэзию Изяслава Котлярова, достаточно незамысловатую содержательно, но музыкальную. Наследуя традиции русской эмиграции, лирик говорит о сложности судьбы человека, коварстве его собственных желаний, сомнениях в основах бытия. Все это традиционные для такой поэзии темы, обозначенные еще Георгием Ивановым, однако достоинство лирики Котлярова, подобно поэзии Валентина Нервина, заключено в тихом звучании ее неглубокомысленной природы. Мы бы не стали рассматривать это как некое открытие, скорее восприняли в качестве образца представлений о поэтическом в определенной школе. Также хочется отметить иронический рассказ Дениса Липатова «Ужас», значимый в контексте современности. Ужас, собственно, в том, что при жизни поэта носят на розах, а лет через двести, скажем, одна строчка в учебнике – и то хорошо. И как же это так вышло, что проглядели современники истинного гения, а чествовали фигуру третьестепенную? Наверное, глупее нас с вами были, а главное, образования меньше. Впрочем, какой бы ни была истинная причина такой несправедливости, можно еще весьма долго обманывать некоторых ради вторичной личной выгоды. Примерно так рассуждает потомок поэта Сумарокова, до сих пор прокучивающий его наследие. Собственных заслуг, кроме долгов и хронического алкоголизма, он не имеет, оправдывая известную пословицу о жалких отпрысках, однако существуют еще во Вселенной мистические пути даже для таких погибших душ. Под прикрытием детективного и даже сатирического сюжета автор затрагивает болезненные точки современной творческой среды.
Номер открывает ностальгическая подборка главного редактора журнала «Балтика», калининградского поэта Бориса Бартфельда. Его лирика, не чуждая традиционализма, тем не менее включает ритмический эксперимент. Всегда чуть непривычно в классической форме стиха наблюдать условную рифму и «дополнительные строки», однако это и есть движение, выход из канона, преодоление консервации. Темы, затронутые в элегических стихах, предполагаемы для избранной тональности: это одиночество, склон жизни, память о матери. В манере исполнения этих предосенних этюдов мы видим эстетизм, отземленность, словно бы лирический герой смотрит на свою прежнюю жизнь как на выцветающий кинофильм, впрочем, снятый мастером, может быть, Андреем Тарковским.
У подъезда юность моя.
Роман прозаика Елены Крюковой «Лазарет» (хотя, на мой взгляд, это повесть) посвящен призванию военного хирурга. Это книга о жизненном выборе – о самом факте его наличия, о том внутреннем таинственном зерне, которое понуждает человека избрать свой путь. В центре повествования два хирурга, один из которых еще и священник – и это в страшные советские времена гонения на церковь. Для обоих врачей ХХ век становится временем войн, репрессий, ссылок, лагерей, эпоха больна не только физически, но и духовно, потому что произошло расчеловечивание, озверение людей из-за невыносимых тягот. Есть те, кто бежит от эпицентра событий и ухитряется прожить свою маленькую, относительно благополучную жизнь даже в самые мрачные времена. Но существуют совсем другие люди, которых словно притягивает концентрация крови и огня, для которых «всегда война». Текст, посвященный памяти Николая Амосова и святителя Луки, разумеется, не относится к исторической прозе в традиции реализма. Мы вспоминаем таких мистиков, как Дмитрий Мережковский и Валерий Брюсов, – именно они заложили традицию подобного романа в своих классических «Огненном ангеле», «Христе и антихристе» и других вещах. События, происходящие в «Лазарете» (не весь ли это ХХ век?), имеют два плана – бытовой и сакральный, символический. В реальности происходят Первая и Вторая мировые войны, Революция и Большой террор, великие катаклизмы первой половины ХХ века, и интересное для историка пространство для обывателя гибельно со всех сторон. Однако в трансцендентном пространстве мы наблюдаем путь святого человека, несущего чудо и веру отчаявшимся, имеющего видения и откровения, подобно протопопу Аввакуму, узревшему во сне корабль, на котором ему предстоит плавать, спасая ближних. Попытка заглянуть во внутренний мир такой личности, реконструировать ее, хотя бы и по источникам, – это смелый авторский ход, ведь «Бог у каждого свой», но в достоинстве кроется и недостаток: роман эмоционально перегружен. Могут возразить, что апология страшного времени и не может напоминать вышивание крестиком по канве орнаментального повествования. Однако есть разница между свидетельством об эпохе и художественным произведением, которое, как замечательно сказал Мандельштам, не должно напоминать один неостановимый крик горя. Литература – это искусство, в нем важна мера и даже изящество, ведь недаром говорят «изящная словесность». Кто-то обвинит рецензента в цинизме, однако избранная автором текста экспрессивная стилистика, в сочетании с приемом исповедального повествования от первого (переходящего) лица – постепенно психологически утомляет читателя. Впрочем, вероятно, современники Достоевского тоже жаловались на его избыточную патетику, так что подобный критерий субъективен. Нельзя не отметить и еще одну черту, сближающую повествование с символистским наследием, – это нетривиальное истолкование жизни святого человека, апокрифизация. Представление о пути святого человека в православной традиции, скажем, может существенно отличаться от альтернативной версии романа, сказания, песни. Все эти жанры имеют право на существование, на голос. Однако, читая у Мережковского о юности Девы Марии, мы испытываем некоторый дискомфорт вследствие непривычной интерпретации. Также и, будучи мало знакомым, например, с житием святителя Луки, читатель может смутиться и запутаться в особенностях авторского видения, – но, разумеется, на всех не угодишь.
Подборка поэта и переводчика Михаила Синельникова напоминает нам о классической просодии и о том, что лирик может интересоваться отнюдь не только собой. Стихи, содержащие историю, «нарратив», сегодня воспринимаются двойственно, подобно творчеству «на случай», однако для русской поэтической традиции такой выбор предмета более чем приемлем. Суггестивные, замечательно написанные стихи о Пушкине, Зиновьеве, Востокове, городе Петербурге (ведь это тоже полноправный персонаж) – не попытка воспроизвести общеизвестные сюжеты, стать альтернативой культурно-исторического справочника. Я бы рассуждала здесь об избранном объекте как о демонстрации мастерства автора, о поводе сдвинуть фокус. Претензию можно сделать к сложности, исключающей нежный лиризм: всегда будут читатели, ищущие в поэзии «звуков сладких и молитв», а не головоломки, ящичка с секретами. Здесь также можно проследить влияние Мандельштама, трансформированное ироническим снижением.
Просодии таинственный запас.
(Из стихов о Востокове)
Рассказ Александра Юдина «Чудь-гора» посвящен проблеме старорусского сектантства и выполнен в виде стилизованного письма известного писателя Мельникова-Печерского к его другу Владимиру Далю. Это отчасти пародийная, но увлекательно написанная детективная история о страшной ереси чуди белоглазой, промышлявшей людоедством, а точнее, девкоедством. К скопцам, хлыстам, раскольникам и всему многообразию северных верований, докучавших ортодоксальной православной церкви до революции, добавились еще и вовсе варварские обычаи. Жанр «письма в бутылке», то есть якобы найденного архивного документа, нельзя назвать оригинальным, здесь скорее оценивается мастерство имитации. К достоинствам прозы Юдина можно отнести умелую реконструкцию, любопытную тему, соединение смешного и страшного, а также саму сюжетную линию, конечно же, исключающую возникновение этого произведения веком ранее. Ведь, помимо колорита, существуют еще и литературные традиции, и в пушкинскую эпоху история о том, как следаки ловили на живца – страшную и огромную рябую девку Дуньку Тараканиху – представителей секты изуверов-людоедов, разумеется, не могла бы возникнуть. Хотя при наличии богатого воображения можно отождествить ее с пушкинской рябой Акулиной, дочерью кузнеца из «Барышни-крестьянки».
Мистическая новелла Михаила Лидогостера «Огнестрельных пять» рассказывает о призраке еврейской девушки Дины, явившемся молодому экскурсанту на расстрельном полигоне под Москвой. Это достаточно распространенный кинематографический сюжет – возникшие чувства между смертным и потусторонним обитателем, но здесь романтическая канва в каком-то смысле разочаровывает читателя, поскольку находит разрешение не в беллетристике, а в историческом ракурсе. В данном случае душа погибшей лишь указывает герою на некий артефакт, в то же время помогая ему с самоидентификацией. Увлекательный и динамичный, текст несколько снижен прозаическим финалом, но в то же время он имеет смысловую нагрузку, освещая темы большого террора, высшего суда, законов истории. Невозможно не вспомнить и другую современную книгу, которую теперь нельзя упоминать, но практически все ее читали: в ней также герои посещают Аушвиц, как здесь – расстрельный полигон, также задаются вопросами о справедливости, памяти, существовании сверхъестественного, и в итоге находят если не ответы, то хотя бы свое отношение к вопросу.
Философская поэзия Изяслава Котлярова, вроде бы незамысловатая, привлекательна некоей тихой музыкой приятия жизни, несмотря на ее неоднозначность. Вот пример почти лишенной нарратива, но при этом не затемненной по смыслу лирики. В духовном смысле такое мировидение кажется наследующим традиции русской эмиграции, Георгию Иванову, Георгию Адамовичу, Анатолию Штейгеру и другим, менее известным лирикам. Смысл жизни до конца не ясен, но ждет ли нас что-то хорошее в небытии, тоже вопрос, мы ошибаемся, каемся, и снова ошибаемся, не становимся умнее и мудрее, напротив, словно бы движемся обратно к детству, но надо, надо все же жить. Такое околодекадансное настроение не назовешь оригинальным, однако в поэзии есть элемент, который нельзя пересказать, ее нельзя рассматривать «убежденчески». Скудно в прозаической выжимке выглядит то, что в элегии приобретает дополнительные смыслы. Достаточно небогатая лексически, без открытия глубоких истин, едва ли не обвиненная в тривиальности – в то же время это совершенно подлинная поэзия. И такие явления всегда оставляют чувство парадокса: смысловая скудость наполнена неуловимым звучанием.
вдруг не стало ничего.
Сатирические рассказы Сергея Зельдина посвящены разного рода недостойным людям и их порокам, впрочем, не каким-то редкостным злодеям; а если в двух словах, то мещанство, иначе духовное оскудение, у него – мать всех бед. Например, когда мужчине за 50, а жизнь прошла, словно ее и не было, он может захотеть стать писателем, только редко из этого выходит что-то путное. Или вот есть люди: ждут-пождут пенсии на скучной и непонятной работе, чтобы, наконец, зажить, как люди, а это не пенсия, а насмешка одна, и жить на нее не представляется возможным. Бывает, что вроде человек и не алкоголик, а просто немного выпивает, в компании или после работы, но как-то незаметно получается, что все другие интересы теряются, и вообще с жизнью происходит нехорошее. Или, например, политическая одержимость, «диванный патриотизм» так называемый – явление, частое во многих странах, но к реальной любви к Отечеству, разумеется, ни малейшего отношения не имеющее, вернее было бы назвать таких граждан патриотами телевизора. Впрочем, сколько ни борись в этих направлениях, а все равно среда заедает и в четверг телепередача, и конечно, даже посмеяться над подобными сюжетами не тянет, уж скорее заплакать.
Исторический и иронический рассказ Дениса Липатова «Ужас» любопытен актуальной тематикой: при жизни некоторые поэты, по разным соображениям, нередко ценятся больше, чем после их смерти. А бывает и наоборот, и еще ох, как бывает. Что бы вы предпочли – любовь при жизни или после нее, или и то, и другое? Например, взять Ивана Баркова. Мало кому он сегодня известен за лирические заслуги, а вот при его жизни всерьез велся спор о его борьбе за первенство среди поэтов! Герой Липатова – потомок древнего рода Сумароковых, и горькая правда в том, что он допился до растроения личности, погряз в долгах и, как это слишком часто бывает, опозорил древний и славный род всеми возможными путями. Психологизм с отсылками к Достоевскому, Булгакову и даже Гоголю не введет в заблуждение читателя, который достаточно умен, чтобы различить насмешку. Конечно, «Ужас», что романтические белые ночи превратились в маргинальную прозу и ее инварианты, что раньше у нас была великая идея, а теперь только растроение личности от водки и ее заменителей, что у российской литературы есть лишь одно будущее – это ее прошлое, и так далее, и так далее. И все же автор не столь прост, даже по-своему способен утешить читателя нас возвышающим обманом. Главный же «Ужас» в том, что у кого-то просто нет, а может, никогда и не было таланта, хотя, разумеется, речь не об авторе.
Дмитрий Зиновьев разбирает в своей публицистической работе «Абсолютное зло» блокадные архивы, знакомя читателя с малоизвестными документами периода немецкой оккупации. Казалось бы, ленинградская блокада – один из наиболее изученных периодов Великой Отечественной войны, богатый свидетельствами, в том числе со стороны известных писателей-очевидцев. Однако до сих пор существуют вопросы, на которые нет однозначного ответа. Исследователь размышляет о том, что сегодня включает в себя понятие геноцида, под которым мы чаще подразумеваем физическое истребление какой-либо нации, и кто несет ответственность за исторические, особенно военные преступления. Из приведенных документов – заявлений пострадавших в войну мирных жителей Ленинграда и Пушкина – мы видим, что действия немецкой армии не подпадали под это определение, поскольку речь шла не об уничтожении по национальному признаку (поляки, евреи, цыгане), либо идеологическому (большевики), а осуществлялось планомерное уничтожение жителей совершенно разного социального и этнического происхождения. Потому сами по себе бесчеловечные действия, которые можно охарактеризовать как попросту истребление населения городов, в научном смысле не подпадают под термин «геноцид», как его понимали в 1946 году в Нюрнберге.
Писатель и публицист Александра Созонова публикует любопытную переписку с известным философом Григорием Померанцем и его супругой, поэтессой Зинаидой Миркиной – «На глубине бытия зла нет…». Чрезвычайно интересные в документальном отношении, послания пожилых супругов к своей «духовной ученице» были написаны в околоперестроечное время, когда адресат находилась в тяжелой жизненной ситуации. Она была вынуждена растить маленькую дочь в неблагополучной семье собственных родителей, не имея работы и средств к существованию. Любой простой человек легко понял бы ее отчаяние, учитывая исторический период и ситуацию, однако письма Померанца и Миркиной больше касаются религиозных поисков и анализа Священного Писания, нежели каких-то приземленных материй. Имеющие отношение к экуменической церкви, пожилые литераторы рассуждают о творчестве Даниила Андреева, посланиях Апостола Павла, книге Иова, принципах детерминизма и свободе воли – и других, актуальных для всех верующих темах.
В «Петербургском книговике» Александр Балтин рассказывает о биографии выдающегося географа Андрея Капицы, изданной в серии «ЖЗЛ» (Слипенчук М.В., Щербаков А.Б. «Андрей Капица: Колумб ХХ века». – М., «Молодая гвардия», 2023 г. – видимо, существует краткий и расширенный вариант). Потомок известных ученых родился в Англии, но в тридцатые вернулся на родину в СССР, где и окончил геофак МГУ. Основной целью его жизни было исследование Антарктиды, участие в опасных экспедициях, составление атласа неведомых земель. Наделенный педагогическим даром и административной жилкой, Андрей Капица продолжил прославлять свой род и как организатор, возглавив Тихоокеанский институт географии во Владивостоке. Ученики и потомки исследователя и сегодня поддерживают его начинания.
В рубрике «Территория памяти» Светлана Колокольцева с большой любовью рассказывает о мастере гравюр и офорта Александре Колокольцеве, который прожил короткую, но плодотворную жизнь. Его молодость пришлась на брежневскую эпоху, петербуржец, он закончил Академию им. Штиглица и после армии целиком посвятил себя искусству. Ремесло мастера офорта – сложное и затратное, требующее особых условий само по себе, а вдобавок далеко не всем интересен такой вид искусства в принципе. То есть путь подобного профессионала к зрителю еще более тернист, нежели у «простого» живописца. Однако Колокольцеву, несмотря на то, что он дожил лишь до перестройки, еще при жизни удалось обрести признание в Европе и на Родине. Сегодня его работы легко можно найти во всемирной паутине.
В разделе «Книжный остров» Елена Зиновьева освещает такие новинки, как сборник воспоминаний о замалчиваемой финской войне «Мы шли к Победе через все преграды!» (СПб., Алетейя, 2022); книга стихов известной современной военной поэтессы Анны Ревякиной, уже более 10 лет находящейся в зоне приграничного конфликта – «Восемь. Донбасских. Лет: Стихи» (СПб., Питер, 2023); воспоминания о композиторе Скрябине ««Природу в звуки претворил...»: А.Н. Скрябин глазами современников» (М., СПб., Нестор-История, 2022); расследование Юрия Зобнина, связанное с гибелью Н.С. Гумилева «Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии» (СПб., Издатель Геннадий Маркелов, 2021).
В рубрике «Пилигрим» архимандрит Августин Никитин продолжает свой путеводитель «Петербургские храмы в записках иностранцев». Здесь мы можем прочесть любопытные, но и печальные истории из жизни князя Меншикова, императора Петра III, Иоанна VI Антоновича и других царственных особ, чьи судьбы были связаны с храмами Ораниенбаума, Гатчины, Царского Села и т.д.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети