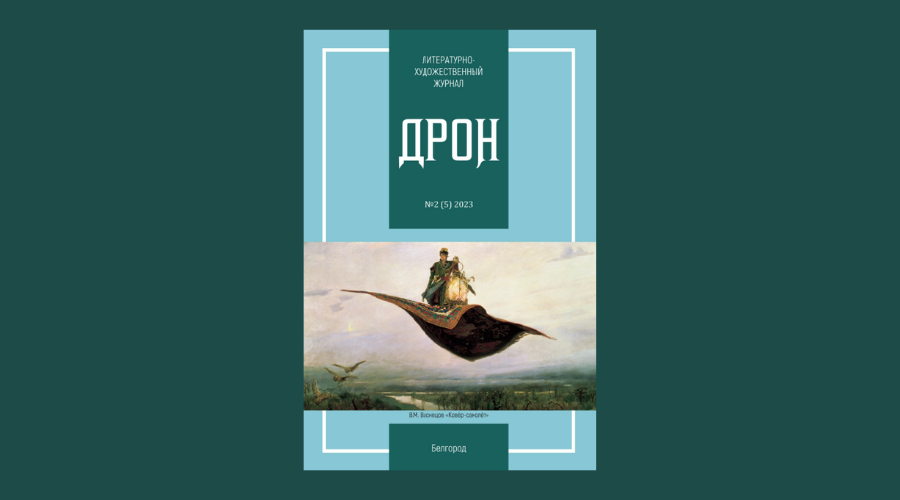«Дрон» № 2 (5), 2023
Литературно-художественный журнал «Дрон» издаётся в Белгороде с 2021 года. Выходит в печатном и электронном виде; объём 230 страниц. Журнал является авторским проектом белгородских писателей Людмилы Брагиной и Олега Роменко, которые уже много лет работают с литературными студиями города в качестве наставников. «Дрон» стремится заинтересовать читателей своей неординарностью и самобытностью, что выражается не столько в названиях рубрик – «Белгородская черта», «Города и веси», «Грани самоцветов», «Полёт навигатора», «В тридесятом царстве», «Всадник без головы», «Живая вода», «Луч света» и других, – сколько в творчестве наших постоянных и неслучайно приглашённых авторов, придающих журналу, перефразируя поэта, «лица всеобщее выраженье», таких как Марина Струкова, Тихон Синицын, Анатолий Бимаев, Роман Кручинин, Ирина Соляная, Иван Катков, Павел Лаптев, Андрей Новиков и другие.
Редакторы – составители – Л.П. Брагина, О.С. Роменко.
Новые рейсы ковра-самолёта
С редакцией белгородского журнала «Дрон» меня связывает дружба длиной в несколько лет и творческое сотрудничество. А с недавнего времени это «летающее» издание стало и немного саратовским – бумажный его вариант печатается в одной из наших типографий. Так что в каком-то смысле «Дрон» теперь – межрегиональный, а у нас с его создателями – Людмилой Брагиной и Олегом Роменко своеобразная писательско-издательская корпорация (тут мне захотелось поставить смайлик, но, вроде бы, в художественной литературе так не принято пока!)
Немудрено, что создатели журнала и его идеологи своими публикациями открывают третий номер за прошлый год, о котором сейчас пойдёт речь. Дело тут, как мне представляется, не в амбициях, а в том форм-факторе, который определил В.И. Чапаев в своём киновоплощении – ну, вы помните, о роли и месте командира на примере корнеплодов. Думается, что в журнале быть «впереди, на лихом коне» – более не честь, а ответственность. Ведь в случае чего и под удар критики «командир» попадёт первым.
Впрочем, в авангарде, а точнее – на авантитуле журнала – портрет и стихотворение Юрия Шумова. Это уже традиция, установленная «дроновцами» – своеобразный эпиграф ко всему номеру. Но о нём и его авторе – позже, как и о редакторской колонке, небольшой, но ёмкой.
А сейчас – о рассказе Людмилы Брагиной «Родной обычай старины».
Знаете, чем, на мой взгляд, хорош реализм в литературе, особенно его русская разновидность? Тем, что мастер слова может при его содействии показать чудесное в самом обычном, повседневном. Нет, это, конечно, отнюдь не главная задача стиля, а скорее – некий побочный эффект. Но эффект настолько яркий и запоминающийся, что превосходит порой по воздействию всё фэнтези и всю мистику вместе взятые. И все сказки – ибо речь в рассказе идёт о них, не в обиду сказочникам будет сказано.
Тёплый, неспешный мир позднего советского общества, небогатый, но сытый, не изощрённый в развлечениях, но начитанный, не особо комфортный, но по-особенному уютный. Мир нашего детства…
И жила (жила-была!) в этом мире девочка, которая очень любила Пушкина и его сказки, да, наверное, и сказки вообще – хоть в книжке, хоть в телепередаче легендарной «тёти Вали». И взялась эта девочка воплощать в не сказочном мире сказочное волшебство, ни много ни мало – оживлять живою и мёртвою водой. И вы знаете – у неё получилось! Ну, может быть, получилось у её бабушки. При этом ничего фантастического в рассказе не происходит – всё остаётся в русле реализма, того самого, смотрите выше. И, тем не менее – происходит чудо!
Не буду, как принято нынче говорить, «спойлерить», раскрывая подробности сюжета, надеясь, тем не менее, на то, что заинтриговал потенциального читателя. А я, как читатель уже состоявшийся, вынес из этого рассказа столько душевной теплоты и чистой, по-настоящему детской радости, что запомню его навсегда…
Рассказ Олега Роменко «Пример для подражания» – тоже, извините за каламбур, пример добротного реализма, а кроме того – злободневен и актуален. Современная литература с разных сторон периодически подступается к теме русского бизнеса, «бессмысленного и беспощадного», и данное произведение – образец удачного и остроумного осмысления, так сказать, кадровой политики и организации производственного процесса в небольшой типографии. Тут есть и сатира, и юмор, и типологически верные, точные образы работников и руководителей, и характерный конфликт, и множество деталей, о которых, конечно же, Олег Роменко – писатель и издатель – знает не понаслышке. Но главное – живые, естественные люди, живущие в реальном мире, полном абсурда, что для них – увы! – печально, а для прозаика – источник вдохновения.
Миниатюра Александра Тухтарова «Книжный червь» – аллегорический гротеск. История в духе Бианки положена тут на некий социальный подтекст – остроумный, но, на мой взгляд, до конца не реализованный. Лично для меня, как для читателя, осталось не совсем понятным, какую аллегорию развивал автор: неприспособленности интеллигенции к бытию? Неприменимости книжных знаний? Паразитизма культурной элиты? Несмотря на то, что фабула рассказа имеет завершённый вид, осталась в нём некая недосказанность и хочется какой-то «морали» – к чему вообще эта своеобразная басня в прозе?
Илья Чесноков в автобиографической повести «Стройбат» верен, натуралистичен и честен. Позднесоветская армия второй половины 1980-х… Герой Чеснокова родом из солнечного Чимкента служит в городе-герое Волгограде, как ясно из названия – в доблестных строительных войсках. «Два солдата из стройбата заменяют…» – ну, вы помните. Повесть, интересная и образами сослуживцев, чьи портреты переданы с фотографической точностью, и вместе с тем – они в чём-то собирательные, типичные для той эпохи, и просто мастерски переданной атмосферой времени, что делает текст добротным свидетельством эпохи. Только вот редактор почему-то не напомнил автору, что в те времена город Бишкек назывался ещё Фрунзе.
Поэтическая подборка Марины Волковой из Санкт-Петербурга очень метко названа «Растеряно безмолвствует народ…». Прежде всего, растерян автор подборки – в стихах метания от исторических отсылок и веры в то, что «Рождаешь в муках новую страну…» до осознания абсурдности войны и апокалептичности происходящего: «Над грядой обречённого стана/Чёрной тучей кружит вороньё…» Растерянность, попытки найти опору то в прошлом, то в будущем, женская, материнская рефлексия («Нынче в каждом дому/Причитает своя Ярославна»), тяжкая смесь отчаяния и надежды – вот составные этих трудных, по-настоящему современных стихов.
Моя землячка (родилась в п. Романовка Саратовской области) Марина Струкова написала своего рода антипритчу. Или, если хотите, антижитие. Да, мысли о вот таких причудливых жанрах возникают в голове, когда читаешь её рассказ «Среди добрых людей. Святой Саламан Безмолвник». Нет тут привычной философской стройности притчи, нет благостной и суровой атмосферы жития. А есть простой человек, пытающийся быть с богом, но вынужденный быть с людьми – на этом строится конфликт в повествовании, в этом же Саламан найдёт свой катарсис. Мудрый и неожиданный текст, я думаю, станет открытием для вдумчивого читателя.
Рассказ Евгения Мирмовича «Одинаковые пули» начинается как сцена из прозы Нодара Домбадзе или Георгия Гулиа – размеренно и почти пасторально, щедро одаривая южным колоритом и ароматами мирной неспешной жизни. Тем сильнее контраст от последующих сцен, от ретроспекции в войну, которая в неназываемом закавказском городке, оказывается, всё ещё прячется буквально повсюду. Рассказ бескомпромиссно антивоенный и безжалостно правдивый – это так нужно нам сейчас!
Основная мысль рассказа Ивана Каткова «Пассажир», честно сказать, осталась для меня непонятной. Увлекательный и полный добродушного юмора сюжет имеет новеллистическую, то есть труднопредсказуемую развязку, в которой, вероятно, необходимо разглядеть некую «мораль» в духе «внешность обманчива». Однако причины как преобразования нелепого гостя культурной семьи главного героя из откровенного нахлебника в «нормального мужика», так и повод к внезапной симпатии к нему отца рассказчика и его друзей-гопников так и остались где-то «за кадром». А жаль…
Подборка стихов Надежды Смаглий «И вьётся сомнений мучительных нить…» – образец традиционной женской лирики. Несчастная любовь, расставание, вынужденное одиночество – обычный, хрестоматийный набор образов, метафор, сюжетов. Тем не менее, у такой поэзии всегда есть верный читатель, и представить себе номер добротного литературного журнала без неё, наверное, невозможно…
«Колобок» известного вологодского писателя Дмитрия Ермакова – к сожалению, совсем не сказка. Автор изящных и добрых «Кружевных сказов», прозаик, равно успешно пишущий как для взрослых, так и для детей, в этой ностальгической миниатюре Дмитрий Анатольевич придаётся ярким, тёплым, очень зримым, но совсем не весёлым воспоминаниям о днях своего детства, проведённых в деревне. Я не случайно написал «своего», не смотря на то, что рассказ не является прямо автобиографическим, и главный его герой сколь типичен, столь и собирателен. Коренной горожанин, Ермаков тоже не раз проводил каникулы в вологодской деревне. Именно поэтому, наверное, в сегодняшнем нашем литпроцессе он – один из самых верных и талантливых последователей своего земляка и учителя Василия Белова, а также других авторов «деревенской прозы». Вот только достались сегодняшним деревенщикам уже не исчезающие, а исчезнувшие деревни и сёла…
«Последняя зима» Михаила Гришина будто бы подхватывает невесёлую сказку из рассказа Д. Ермакова, только там умирает старик сказочный – а у Гришина – самый настоящий. Вспомнилось старое слово, которое использовали представители старших поколений как эвфемизм для слова «смерть», «умер» – «убрался». Так и сейчас ещё говорят в глубинке, и есть в этом глаголе что-то очень важное, что-то далеко выходящее за рамки всех этих наших суетных «кончин», «в последний путь», «скоропостижно…». Вот и у Гришина старик именно «убирается» – предчувствуя смерть, приводит в порядок себя, дела, душу – будто убирается за собой и убирает себя из этого мира – аккуратно, скромно, методично…
Криминально-психологическая история Вячеслава Килесы «Попутчица» затрагивает больную тему насилия над женщиной. При кажущейся очевидности проблемы берущемуся за неё писателю трудно не скатиться или в морализаторство, или в пошлость. У Вячеслава Владимировича получилось «пройти по черте» между этими двумя крайностями и сказать очень важные вещи простыми словами.
Стихи Ольги Борисовой под общим названием «Есть надежда, что будет рассвет» – философская лирика так сказать «общего назначения» – с очень разнообразной палитрой тем, мыслей, эмоций. Лично мне не хватает в таких стихах конкретного, ясного, личного. Когда автор пытается писать сразу обо всём, стараясь «объять необъятное» – получается ни о чём, холодновато и рассудочно.
«Глазами собаки» Алёны Родионовой-Крымской вызывает в памяти построенные по тем же лекалам произведения Константина Сергиенко или Э.Т.А. Гофмана – повествование ведётся от лица животного, собаки. Обычно фабулы такого рода принадлежат философским текстам, сатире, гротеску. Но не в данном случае – тут в этой экзотической «упаковке» автор преподносит нам любовную историю, точнее – очередной пример несчастной любви и женского одиночества. Невольно напрашивается и эпитет для данного рассказа – «мило».
А вот сказка Олега Роменко «Похищение» – точно гротеск, и, вероятно, сатира. Только вот понять, в чём её суть и над чем надо смеяться, я, к сожалению, не смог. Подозреваю, что под личинами человеческих и нечеловеческих персонажей скрываются какие-то белгородские персоналии, а сама сказка – пародия на некий узнаваемый в городе писательский стиль (несколько раз повторяющийся эпитет «трепетные комочки» и нарочито-слащавое «кошечка» к этому склоняют). Что ж, исключительно локальные, так сказать прикладные сюжеты в региональном журнале должны быть хотя бы для поддержания остроты местного литературного процесса.
Печатающаяся в «Дроне» с продолжением семейная сага «Потомки хана Аспаруха» Ирины Милчевской, вероятно, основана на истории семьи автора. Хроника жизни болгарского рода на территории СССР полна разнообразной информации, содержит в себе большую трагедию и сама по себе будет интересна почти любому читателю. Жаль, что И. Милчевская свела это сложное и по сути своей историческое полотно всего лишь к мелодраме, смонтировав реальные характеры с дамским романом, да ещё и выведя длинную нить сюжета к довольно банальному хэппи-энду. Редколлегии же журнала снова посоветую быть внимательней к содержанию публикуемых текстов и их исторической достоверности. Так в описании Ашхабада в 1948-м году читаем: «Город поразил её древними дворцами и минаретами, великолепными фонтанами, величественными храмами усыпальницами и бесчисленными памятниками». Увы – Ирина Константиновна путает столицу Туркменской ССР не то с Самаркандом, не то с Бухарой – Ашхабад, основанный всего лишь в конце XIX века на месте небольшого аула, не имел в те годы всех этих архитектурных красот…
Статья Людмилы Брагиной о земляке, товарище, соратнике, замечательном белгородском поэте Юрии Шумове – не просто воспоминание или литературоведческое исследование, а настоящее приношение удивительному таланту. Недаром его портрет и стихотворение открывают номер – таким литератором, как Юрий Васильевич, Белгородчина, я думаю, гордится, и по праву. Людмила Брагина тонкими штрихами набросала портрет человека и художника, всё время как бы полупогружённого в Вечность – а это черта гения... Написанное в статье, как неопровержимый рифмованный документ, подтверждает и подборка стихов Ю. Шумова – «Моя душа – живой родник...» Лаконичные, пронзительные, какие-то почти прозаически весомые стихи, короткие, как выстрел снайпера, и так же точно бьющие прямо в сердце – вот приметы поэзии Шумова. Спасибо большое за открытие такого замечательного автора!
Полемическая (именно так, не критическая, а полемическая) статья Людмилы Брагиной и Олега Роменко «Маленький мальчик играл в волонтёра» – своего рода рецензия на эссе Дениса Гуцко «Нацики всегда так» в десятом номере «Знамени» за позапрошлый год. К стыду своему, с творчеством этого современного писателя я совсем не знаком, хотя он даже был одним из авторов саратовской «Волги». Поэтому в полемике поучаствовать не смогу, только замечу, что критика по поводу многократного использования Д. Гуцко слова «фронтир» относительно событий на Украине показалась мне довольно наивной. Слово этот вовсе не относится исключительно к сфере «развлекательных шоу и вестернов», а является вполне себе историческим термином, обозначающим в науке и литературе постепенно отодвигавшуюся границу освоения Дикого Запада, со временем исчезнувшую вместе с человеческим типажом «вестменов», о чём сожалели многие писатели от Фенимора Купера до Джека Лондона. С тех пор «фронтир» в переносном смысле означает передовую линию противостояния чему-либо, зону, где люди, как правило, живут по духовным правилам, несколько отличным от «большой земли». Никакой связи с современными США и, прости Господи, НАТО, термин не имеет, мало того – одним из первых, кто рассказал русскому читателю о так называемом «духе фронтира» был... «наше всё» – Пушкин! Ещё в 1836 году Александр Сергеевич напечатал в «Современнике» статью «Джон Теннер», которая была не чем иным, как сильно авторизированным переводом книги этого самого «вестмена» Джона Теннера о его тридцатилетнем пребывании у индейцев. Переводчиком и комментатором была сам Пушкин, который – представляете! – ещё и подписался англосаксонским «псевдонимом» – The Reviewer (Обозреватель). Это я к тому, что, наверное, всё-таки не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет (смайлик).
Во все времена хорошим тоном в «толстых» журналах считалось закончить номер сатирой или юмореской. Москвич Александр Пономарёв от души смеётся (и приглашает к этому читателя) над нашей современной отечественной медициной в рассказе «Прогноз благоприятный». Смех, конечно, получился грустным, практически сквозь слёзы. Но наблюдения, которые легли в основу этого текста, наверное, нельзя даже считать чересчур гиперболизированными – иногда – увы! – реальность смешней (и печальней) любой фантазии...
Как уже было сказано выше, белгородский журнал «Дрон» по экономическим причинам вот уже некоторое время печатается в одной из саратовских типографий, к чему я имею некоторое отношение. В силу этих обстоятельств я стал, наверное, одним из первых читателем свежих номеров, и уже второй раз – рецензентом. Должен отметить, что совсем ещё юное по меркам классических мастодонтов литературной периодики издание уверенно обретает своё лицо, стиль, нишу в современном литературном процессе. Дуумвират создателей/редакторов – Людмила Брагина и Олег Роменко уверенно стоят за штурвалом (или что там, у дрона – пульт? Монитор?) собственного детища и выбирают для него свою, не торенную ещё дорогу. В колонке редактора, предваряющей данный номер журнала, говорится, что у него ныне «полуюбилей» – и номер уже пятый, и опубликованных авторов – шестьдесят пять. Думаю, позиция редакторов – отнюдь не самонадеянная, а глубоко верная. Делать литературное издание в современном мире – очень непростая задача. По сути, выход каждого номера праздник и для его творцов, и для писателей, и для читателей, поэтому – почему бы не отпраздновать! С полуюбилем, коллеги!
Спасибо вам за отличную работу и удачи, друзья!
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети