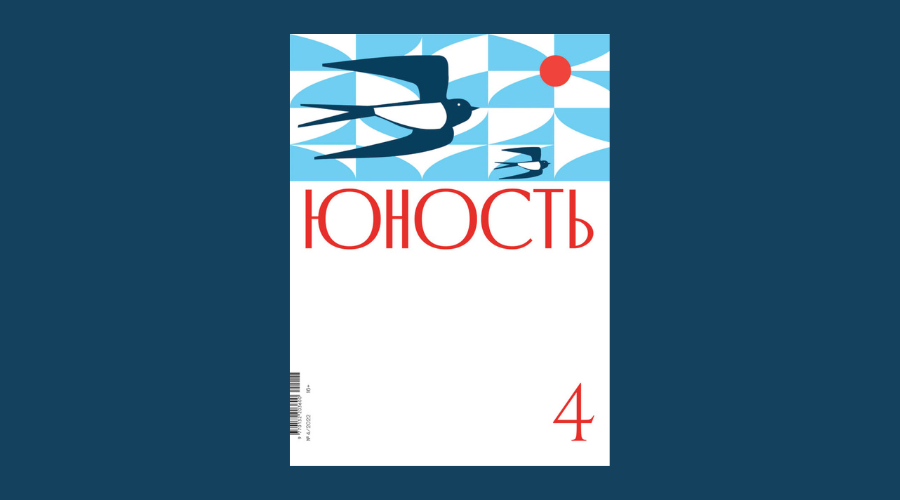«Юность» № 4 (796), 2022
Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность» издается в Москве с 1955 года. Выходит 12 раз в год. В журнале «Юность» печатались: Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис Васильев, Василий Аксёнов, Юнна Мориц, Эдуард Лимонов и многие другие известные авторы.
Сергей Александрович Шаргунов (главный редактор), редакционная коллегия: Сергей Шаргунов, Вячеслав Коновалов, Яна Кухлиева, Евгений Сафронов, Татьяна Соловьева, Светлана Шипицина; Юлия Сысоева (редактор-корректор), Наталья Агапова (разработка макета), Наталья Горяченкова (верстка), Антон Шипицин (администратор сайта), Людмила Литвинова (главный бухгалтер), Общественный совет: Ильдар Абузяров, Зоя Богуславская, Алексей Варламов, Анна Гедымин, Сергей Гловюк, Борис Евсеев, Тамара Жирмунская, Елена Исаева, Владимир Костров, Нина Краснова, Татьяна Кузовлева, Евгений Лесин, Юрий Поляков, Георгий Пряхин, Елена Сазанович, Александр Соколов, Борис Тарасов, Елена Тахо-Годи, Игорь Шайтанов.
Магия текста
В оглавлении апрельской «Юности» не объявлена тема номера. Опытный читатель догадывается, что это означает отнюдь не случайный список авторов, а наличие некоторой более сложной связи, чем тематические определения «музыка», «жанровая литература» или «страх», встречаемые в ранних выпусках. И судя по отсутствию тематики, это определение не односложно, и не так легко формулируемо. Читателю предлагается задача, решение которой возможно только при учёте всех слагаемых.
Раздел поэзии начинается с подборки стихотворений финалиста премии «Лицей» Кати Малиновской. В цикле «Кое-что о Келли» местом действия является сон, где искаженная реальность позволяет крокодилу выползти из шкафа или лирической героине увидеть собственную смерть. В то же время сны Келли оказываются кривым отражением настоящей реальности, в этом искажении будто кроется нечто важное, то, что поможет понять смысл жизни. Сюжетные верлибры Екатерины погружают в завораживающую атмосферу «больного пространства сна», из которого, как из комы, просто не можешь вынырнуть, но и углубляться в дебри подсознания опасно, о чем говорят и предупреждающие символы, всплывающие в тексте – волк, смерть, змея.
Александру Логунову, напротив, свойственно изображение широкомасштабной картины:
Правой рукой – держит ее за Аляску.
Поэт – созерцатель и толкователь внешнего мира, влияющего на душевное состояние лирического героя. Отсюда философские вопросы: «Новое небо – какого оно будет цвета?», поиск новой точки видения: «и дождь – не дождь, – сочение воды», «и лес – не лес, а лесополоса». Представленные стихотворения Александра Логунова оставляют вопросы, ответы на которые сможет дать только сам автор. Интересно, что с творческого монолога начинала и Стефания Данилова в стихотворении «Время»:
и крылом похлопало по плечу.
Лёгкие ритмичные строки, в них идея про «летящее время» растекается на три строфы. Подборка Стефании построена по хронологическому принципу – «Время» здесь самое ранее стихотворение, написанное в 2013 году. Совсем иначе строится позднее стихотворение «Карельский лес», в котором в пространство «больного, ненавидимого тела» проникает запах карельского леса и лета. Такие несочетаемые слова как «кома», «эспрессо», «лето», «таблетки» легко уживаются в поэзии Стефании Даниловой, поначалу представляя два противоположных полюса – свободы и заключения в цепях болезни. Затем два этих мира сливаются воедино, даря лирическому герою надежду на будущее:
почему-то отчаянно пахнет карельским лесом…
В подборке представлено ещё четыре стихотворения, иллюстрирующих закономерный переход автора от лёгкого «Времени» до полновесного «Карельского леса».
В прозаическом разделе встречаются уже знакомые читателям «Юности» лица: Александр Беляев, Валерия Крутова, Борис Мирза, Рагим Джафаров. Авторы, в большинстве своём, представители малых жанров и экспериментальных форматов, выработавшие свой собственный стиль. С первых строк угадывается автор рассказа «Creepy-крест»: «Пока у человека есть кожа, он хочет, чтобы ее касались. Жажда тактильных ощущений формирует интересы, круг общения и взгляды на окружающую действительность. Я бы сказала, что она вся – действительность – состоит из прикосновений. И пусть так и будет, потому что, если люди перестанут касаться друг друга, они просто-напросто сдохнут от воспаления кожи».
Свойственное Валерии Крутовой смакование каждой фразы, автор будто сам «касается» читателя, стремясь таким образом сблизиться с ним. Этот приём не просто раскрывает внутренний мир героини, втершись в доверие читателю, она выливает на него поток своих мыслей и воспоминаний, где одно слово цепляется за другое, рисуя замысловатый узор судьбы: «Voilà – вуаля – как вуаль. Вуаль для меня – это что-то похоронное. Что-то прикрывающее разруху. В том числе и внутри. Сейчас хочется эту разруху какой-нибудь французской вуаля прикрыть, но я не доучила язык». И затем поток неожиданно обрывается, оставляя читателя наедине уже со своими мыслями.
В ином темпе развиваются мысли героя Александра Беляева в рассказе «Пинг-Понг, или где мои». Мужчина средних лет, играя в настольный теннис с ребятами, вспоминает и свою молодость, параллельно попивая «пивко» и отгоняя эти «дебильные» мысли, будто они могут возродить в нём нечто умершее и пропавшее в юности. Герой обращается к воспоминаниям с наслаждением, будто жизнь его сложилась идеально. Только беспокойство о семье, проявляющееся во фразе «где мои?», навязчиво повторяющейся рефреном в тексте, показывает истинную неуверенность героя. Второй рассказ «Никто не совершенен», напротив, имеет классическое строение. Фабула – пожилой барабанщик записывает заключительный альбом с намеренными «несовершенствами». Несмотря на наличие более конкретной сюжетной линии, в сравнении с предыдущим рассказом, и интриги, рассказ вышел менее убедительным. Живая речь, полноценно раскрытая в монологичном «Пинг-Понге», во втором произведении носит лишь информативный характер. Образы героев не выходят за рамки текста, а идея с «неидеальным» музыкальным исполнением донельзя разжёвана читателю: «В этой песне смертельно больной музыкант рассуждает о том, что хотел бы встретиться со своими друзьями в раю, куда сам попадет вряд ли, ибо никто не совершенен». Пафос сюжета затмил самих персонажей, они и спрятались, как Аля из рассказа Дарьи Месроповой скрылась от самой себя. Символично название «Аля слушала», потому что говорить о собственном мнении Аля не решалась, лишь слушала мать, пока та не отдала внучку на воспитание соседке. Как сироту. Просто потому что «Але самой будет легче устроить жизнь». Аля слушала, а потом подожгла дом и сбежала с дочкой. Рассказ-притча, где понятия о добре и зле крепко перемешались. Эффект притчевости создаётся из-за абстрактного повествования, читатель улавливает мотивы, но полноценно характер героини не раскрывается – мы лишь можем угадывать её чувства по некоторым действиям, дорисовывать за автора. Некоторую одноплановость повествования можно оправдать пробой пера Дарьи в жанре рассказа, так как ранее она публиковалась с литературно-критическими статьями.
В текстах уже опытных писателей герои не просто говорят сами за себя и оживают, они оказываются до боли знакомыми. Кем-то из прошлого, может нами самими? Борис Мирза и Антон Прус обращаются к одной теме детства. Их произведения ведутся от первого лица, так что читателю предлагается детская точка видения мира. Время действия – лето, место – деревня бабушки. Но несмотря на одинаковые слагаемые, по итогу нам предстают совершенно разные миры. В рассказе Бориса Мирзы «Котик ты мой серенький» главный герой вместе с двоюродным братом Васенькой приезжает к бабушке Аглае, женщине старой закалки со скверным характером. Мало того, что бабушка вечно недовольна, постоянно кричит и попрекает внуков ошибками их же родителей, к тому же бабушка Аглая «умирала часто и всегда неожиданно», раздавая внукам указания по наследству. Рассказ уморительно грустный, раскрывающий любовь под необычным углом. Заканчивается он ностальгическими нотками счастливого детства, потому что бабушка «мазала мне ногу вонючей мазью и не заставляла есть тушеные кабачки».
Рассказы Антона Пруса «Добрая Рая и злой петух», «Как я не стал хорошим мальчиком», «Крестоносцы и сыроежки» входят в трилогию «Как я не стал хорошим мальчиком. Сумасшедшим. Богословом». Это книга об ином восприятии детства, где каждое событие является приключением, а новое место – сказочным миром. Так, деревня – это волшебный лес с его обитателями: «У прабабушки жили злые козы, царапучая и все время шипящая кошка, был глубокий пруд с гнилыми мостками перед ним, в пруду сидели красивые тритоны, вокруг пруда росло много крапивы и кусты крыжовника с огромными колючками…». Но чары постепенно рассеиваются, и страшная Баба-Яга оказывается доброй и весёлой тётей Раей. С каждым рассказом герой Антоша немного взрослеет, с детством уходит и его волшебство.
Мотив сказочного далее развивается в рассказе Юрия Нечипоренко «Тени на стене». Историю главного героя, один день из его жизни мы видим не через призму реального, а с позиции чувственного восприятия рассказчика: девушка – «утренняя фея», на постели прыгают золотые рыбы, солнечную систему можно охватить руками, а человек становится богом. Весь текст пестрит метафорами, а самым непоколебимым и реальным оказывается памятник Пушкину: «Потому что Пушкин, во всяком случае, не покинул меня – он стоял тут и ждал, и мне было всегда приятно побыть недалеко от него, где-то рядом – он был такой задумчивый, большой и сильный... И никто не мог отобрать у меня его стихи, я вспоминал их про себя». Здесь Пушкину посвящено всего два абзаца, но весь текст Юрия Нечипоренко – это поэзия со множеством символов и метафор. И самым прозаичным оказывается именно отрывок об Александре Сергеевиче, ведь поэзия, которую он олицетворяет, и так растворилась в мире и герой её прекрасно чувствует.
В прозе Рагима Джафарова чудесное в прямом смысле сосуществует наравне с реальным. Жанр фэнтези, в котором написан роман «Марк и Эзра», принёс известность и самому автору, издательство «Альпина» уже выпустило вторую часть книги. Главным местом действия становится волшебная антикварная комната, попасть в которую можно из любой точки мира, а Эзра исполнит любое твое желание. Только стоит помнить, что все имеет свою цену. Легкая, развлекательная книга, которая не отпугнет юного читателя к чтению не склонного. Не случайно эта книга приглянулась поклонникам видеоигр: яркие персонажи, много волшебства и незатейливые мудрости от колдуна: «Проще найти новую женщину, любящую собак, чем выкинуть из дома питомца, – пожал плечами Эзра. – Не находите?». С той же наивностью действуют герои рассказа Евгения Долгих «На билет». Только они существуют в привычной нам реальности, автор явно настроен серьёзно поговорить, но морализаторство на тему «попрошайничать плохо» выглядит не иначе как навязчиво.
Трепетнее к своим подопечным относятся критики рубрики «Зоил». Анна Матвеева погружает читателя в атмосферу японской утончённости, искусно переданной Мюриель Барбери в романе «Только роза». Анна увлечена японской культурой не менее, чем сама писательница, это чувствуется в той теплоте, с которой она рассказывает об особенностях романа – слияние востока и запада, два полюса, которые олицетворяют не только происхождение героини, но и её душевное состояние на протяжении романа.
Если же вам хочется более широкого обзора, то стоит обратить внимание на четыре подборки Татьяны Соловьёвой о новинках современной русской, зарубежной, детской прозы и литературы нон-фикшн. Жанры представлены разнообразные – от психологического триллера до фэнтези, большая часть авторов достаточно известна читателям: Лена Элтанг, Руслан Козлов, Владимир Шаров, Ясмин Шрайбер, Мервин Пик и другие.
Заключительный раздел посвящён 60-летию писательской организации Кузбасса. Поэты Виктор Коврижных, Дмитрий Мурзин, Сергей Донбай и Дмитрий Филлипенко пишут о пленительной природе Сибири, о душевной привязанности к своей родине. Особое место занимает тема деревни и её жителей, для которых сосед порой оказывается более близким человеком, чем для горожанина его же родной брат. Вот и рассказ «Лейтенант» Марины Черноскутовой о «старой гвардии» деревни Чернушки, отбивающихся пирогами от главы района. Но не только о деревенских проблемах пишут уроженцы Кемерова. Татьяна Ильдимирова продолжает тему детства, красочно раскрывшуюся в этом номере, своим рассказом «Пиковая дама». Детское воображение помогает Оле пережить смерть близкого человека: «Только вот когда деда начали выносить – не выдержала, взглянула на него, но запомнила только ноги… В таких ботинках только танцевать, кружить барышень под ритмы рок-н-ролла, веселиться, быть живым, а не лежать в комнате с занавешенными зеркалами. Поэтому и ботинки такие, подумала Оля. Чтобы ловчее было танцевать в другом мире под неведомую музыку». Безболезненно и безвозвратно переносится Оля из сказочного мира детства во взрослую жизнь.
Взросление наблюдается и у героев, и у их создателей. Даже у тех авторов, в текстах которых как таковая тема детства отсутствует, наблюдается творческий рост. Юрий Нечипоренко, Валерия Крутова, Александр Беляев – писатели, выросшие на страницах «Юности». Их тексты всегда неожиданны, они не боятся экспериментировать с формой, искать новые типажи героев. Важен становится момент поиска, открывая каждый номер журнала «Юность», мы будто попадаем в писательскую мастерскую, где за одним столом собрались юные и опытные писатели. И невозможно предсказать, кто в этот раз заставит читателя остановиться и внимательно перечитать строфу или рассказ.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети