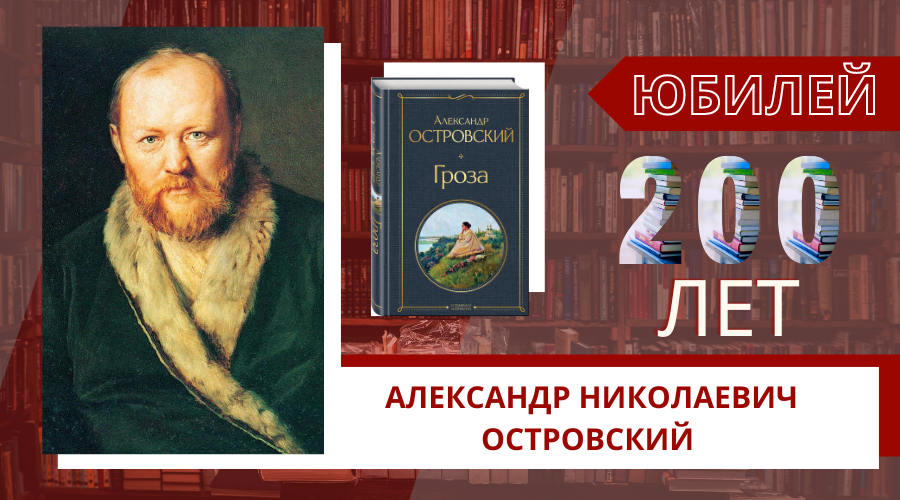
Александр Николаевич Островский родился в Москве, в старинном купеческом Замоскворечье, в семье судебного чиновника.
Окончил Первую московскую гимназию, в 1840–1843 годы учился на юридическом факультете Московского университета, но обучения не окончил.
Служил писцом в суде (по воле отца), при этом активно занимался литературным творчеством.
В 1847 году в «Московском городском листке» опубликовали комедию Островского «Картины московской жизни. Картина семейного счастья». Так его литературная деятельность была обнародована. Островский вспоминал, что на вечере у литературного критика С.П. Шевырёва он читал эту пьесу и удостоился похвал.
Работал над комедией «Несостоятельный должник», её фрагмент был напечатан в 1847 году. В 1849 году с комедией познакомилась «молодая редакция» журнала «Москвитянин», через год, после большой работы с цензурой её напечатали под названием «Свои люди – сочтёмся!» (ещё одно название – «Банкрот»), к постановке пьесу не допустили по указанию императора Николая I. Запрет на постановку этой пьесы продлился 11 лет. Однако благодаря публикации этой пьесы Островский стал известен по всей России.
Молодой драматург продолжил создавать пьесы о купеческом самодурстве, об отличии купечества и чиновников от представителей высших сословий: «Бедная невеста» (1851), «Не в свои сани не садись» (1852), «Не так живи, как хочется» (1854). Пьеса «Не в свои сани не садись» – первая постановка Островского на сцене Малого театра в Москве.
Критик журнала «Москвитянин» Аполлон Григорьев отмечал в произведениях Островского самобытность и выражение народности, при этом критики более прогрессивного направления видели у Островского тяготение к допетровской старине, к славянофильству. Мол, и самодурство купцов Островский чуть ли не идеализирует! Интересно, что и слово «самодур» в литературу ввёл А.Н. Островский. Объяснение автор дал такое: «Самодур – это называется, коли вот человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он всё своё» (из пьесы «В чужом пиру похмелье», 1856).
Н.Г. Чернышевский упрекал пьесу Островского «Бедность не порок» (1854) в сентиментальной слащавости и неискренности. Однако и театральная публика, и московские актеры любили пьесы Островского за их простоту и естественность, а также за счастливый финал как олицетворение победы добра над злом.
Кроме того, драматург очень ценил своего зрителя, переживал за его восприятие происходящего на сцене: «Пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас. Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим» (из письма Островского историку и журналисту М.П. Погодину).
В 1856 году некоторые литераторы договорились об изучении различных районов России – с точки зрения промышленности и жизненного уклада. Островскому досталась Верхняя Волга. Собранная информация и полученные впечатления дали ему и художественный материал. Были созданы пьесы «Доходное место» (1856), трилогия «Праздничный сон – до обеда» (1857); остальные части трилогии о Бальзаминове «Свои собаки грызутся – чужая не приставай» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь» («Женитьба Бальзаминова», 1861); «Воспитанница» (1859).
В том же 1859 году вышел двухтомник пьес Островского.
Тогда же была написана пьеса «Гроза», одна из самых известных пьес.
В своей знаменитой статье «Тёмное царство» Н.А. Добролюбов на основе пьесы сделал ряд политически радикальных умозаключений. В другой статье Добролюбова – «Луч света в тёмном царстве» (1860) – пьеса «Гроза» названа «самым решительным произведением» Островского.
Однако предельно реалистично изображая русскую жизнь, Островский при этом преследует свои, не политические цели: он по-человечески протестует против косного самодурства Дикого и Кабанихи, против тупого смирения Тихона и Бориса, против всевозможного обмана.
Однако очевидно, что и характер Катерины тоже не так прост и однозначен. И она настолько сильна и своевольна, что способна и на грех, и на покаяние. Более того, в этой пьесе на первый план выходит именно внутренний мир героини, Кати Кабановой, формирование в ней самостоятельной личности. Отпустившей чувства на волю, ей теперь необходимо внутри себя примирить любовь и совесть. И с этим как раз героиня справиться не сумела.
Можно трактовать так, что вместе с гибелью героини в образном смысле отмерли и прежний уклад России в целом, ушла патриархальная эпоха.
В 1860-е годы Островский пишет драматические хроники «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1862), «Воевода, или Сон на Волге» (1865), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1867) – из истории Смутного времени.
В 1873 году созданы пьесы «Комик XVII столетия» (к 200-летию русского театра) и драматическая сказка в стихах «Снегурочка», на материале народных преданий.
Продолжает писать комедии и драмы из народного быта – «На бойком месте» (1865), «Горячее сердце» (1869), «Не всё коту Масленица» (1871). Описывает и дворянский быт – пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешеные деньги» (1870).
В произведениях Островского постепенно происходит движение к условности, гротеску, теперь его характеры менее многосложны, больше походят на маски. Театр Островского становится метафорой жизни – здесь не живут, а играют.
Позже, в произведениях 1870–1880-х годов главной темой становится трагическая участь русской женщины, бесправной в социальном смысле: «Богатые невесты» (1876), «Таланты и поклонники» (1882), «Без вины виноватые» (1884).
В знаменитой «Бесприданнице» (1879) юная и прекрасная Лариса Огудалова – желанный, но спорный куш в циничной коммерческой игре-торге купцов-воротил.
Пьеса «Волки и овцы» 1875 года – из дворянской жизни, и здесь герои притворяются одним, а в реальности делают совсем другое.
Были написаны пьесы о современном театре – «Таланты и поклонники» (1881) и «Без вины виноватые» (1883). Жизнь актрисы привлекает многих как мечта и идеал, но в реальности это очень трудная судьба.
В общей сложности А.Н. Островский написал 49 оригинальных пьес.
Писал пьесы и в соавторстве, занимался переводами.
Создал «Артистический кружок» в Москве (1865), был руководителем созданного им Общества русских драматических писателей и оперных композиторов (1874).
Много делал для развития актёрского образования, для улучшения материального положения как артистов, так и драматургов. С 1885 года заведовал репертуарной частью московских театров, возглавлял театральное училище.
А.Н. Островский создал школу реалистического драматического искусства, поддерживал и развивал идеи «натуральной школы». Основные черты драматургии Островского: раскрытие серьёзных проблем в жизни страны на примере отдельного семейно-бытового конфликта; создание ярких и узнаваемых характеров; придание речи персонажей живого, народного звучания. Каждая пьеса Островского заканчивается неоднозначно, заставляет задуматься.
Историк литературы А.И. Журавлева так писала об Островском: «В каком-то смысле можно сказать, что Островский любил театр так же, как он любил Россию: не закрывая глаза на плохое и не упуская из виду самое дорогое и важное».
А.Н. Островский, Гроза, фрагмент
ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ
ЛИЦА:
Савел Прокофьевич Дико́й, купец, значительное лицо в городе
Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова
Тихон Иваныч Кабанов, ее сын
Катерина, жена его
Варвара, сестра Тихона
Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле
Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова
Шапкин, мещанин
Феклуша, странница
Глаша, девка в доме Кабановой
Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая
Городские жители обоего пола
Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3 и 4 действиями проходит 10 дней.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.
Явление первое
Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.
Кулигин (поет). «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» (Перестает петь.) Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.
Кудряш. А что?
Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.
Кудряш. Нешто́!
Кулигин. Восторг! А ты: «нешто́!» Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита.
Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик!
Кулигин. Механик, самоучка-механик.
Кудряш. Все одно.
Молчание.
Кулигин (показывая в сторону). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?
Кудряш. Это? Это Дико́й племянника ругает.
Кулигин. Нашел место!
Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.
Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.
Кудряш. Пронзительный мужик!
Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.
Кудряш. Ну, да та хоть по крайности все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!
Шапкин. Унять-то ею некому, вот он и воюет!
Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили.
Шапкин. А что бы вы сделали?
Кудряш. Постращали бы хорошенько.
Шапкин. Как это?
Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.
Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.
Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно что ничего. Не отдаст он меня: он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.
Шапкин. Ой ли!
Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится.
Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?
Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он – слово, а я – десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.
Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.
Кудряш. Ну, вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи! Шаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.
Шапкин. А то что бы?
Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!
Проходят Дико́й и Борис. Кулигин снимает шапку.
Шапкин (Кудряшу). Отойдем к стороне: еще привяжется, пожалуй.
Отходят.
Явление второе
Те же, Дико́й и Борис.
Дикой. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади ты пропадом!
Борис. Праздник; что дома-то делать!
Дикой. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то! Тебе говорят аль нет?
Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!
Дикой (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. (Уходя.) Вот навязался! (Плюет и уходит.)
Явление третье
Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.
Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.
Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.
Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, сударь, так скажите нам.
Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?
Кулигин. Ну, как не знать!
Кудряш. Как не знать!
Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.
Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь.
Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру; мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам заплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.
Кулигин. С каким же, сударь?
Борис. Если мы будем к нему почтительны.
Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.
Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.
Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, не́што кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?
Борис. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Чрез это я своих обидеть должен!»
Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.
Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была, и представить страшно.
Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают?
Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?
Борис. Да ни на каком: «Живи, говорит, у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год разочтет, как ему будет угодно.
Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать! А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.
Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угождать как-нибудь.
Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне!
Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.
Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! голубчики, не рассердите!»
Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.
Шапкин. Одно слово: воин!
Кудряш. Еще какой воин-то
!Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он обругать не смеет; тут уж домашние держись!
Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге, на перевозе, гусар обругал. Вот чудеса-то творил!
Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.
Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?
Проходят несколько лиц в глубине сцены.
Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?
Кланяются и уходят.
Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.
Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.
Борис. Отчего же?
Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы-то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...
Борис. А вы умеете стихами?
Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.
Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.
Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.
Входят Феклуша и другая женщина.
Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.
Уходят.
Борис. Кабановых?
Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.
Молчание.
Только б мне, сударь, перепету-мобиль найти!
Борис. Что ж бы вы сделали?
Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.
Борис. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?
Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (Уходит.)




