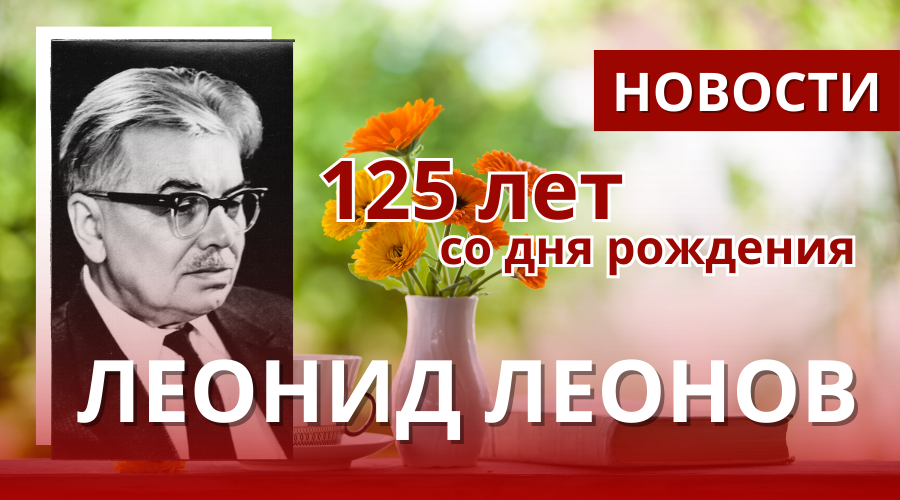
Леонид Максимович Леонов родился 31 (19) мая 1899 года в Москве, отец – новокрестьянский поэт, редактор и издатель, литературный псевдоним отца – Максим Горемыка.
Детство Леонида прошло в религиозно-патриархальной атмосфере семьи деда. Окончил московскую гимназию, затем учился в Первом Московском университете, не окончил.
Участвуя в Гражданской войне, успел побыть с обеих сторон (что не было редкостью). До конца жизни приходилось скрывать белогвардейское прошлое – работу журналиста-антисоветчика в газете «Северное утро» в Архангельске.
С 1920 года Леонов служил в Красной армии в качестве корреспондента фронтовых газет, затем работал слесарем.
Литературное творчество начал с поэзии, затем перешёл к прозе. Некоторое время его причисли к писателям-«попутчикам».
В 1922 году первый рассказ, прозаическая сказка «Бурыга», опубликован в альманахе «Шиповник». «Бурыга», как и другие рассказы Леонова того времени («Гибель Егорушки», «Халиль») – суть символистские сказовые абстракции в духе А. Ремизова и Андрея Белого. Стиль, названный орнаментальной прозой, предполагает использование фольклора, яркий язык и выраженный национальный колорит.
Темой рассказов 1920-х годов, повести «Конец мелкого человека» (1924) и романов «Барсуки» (1925) и «Вор» (1925, новая редакция 1959) стали драматические перипетии жизни в послереволюционной России, коснувшиеся всех слоёв общества. Особенно интересовали Леонова обитатели городского дна, мещанство (и борьба с ним), а также крестьяне.
Роман «Барсуки» – история «раскрестьянивания», противостояния города и деревни, в центре которой братья Рахлеевы, оказавшиеся по разные стороны.
Роман Леонова «Вор» представляет собой увлекательную хронику московского криминального мира 1920-х. Его герой – в прошлом рабочий, в годы войны комиссар Красной армии, а в настоящем – первоклассный вор-медвежатник.
Бытует мнение, что «Барсуки» и «Вор» – лучшее из написанного Л. Леоновым с литературной точки зрения.
В 1929 году Леонов стал председателем Всероссийского союза советских писателей, членом редакции Истории гражданской войны. Известно, что М. Горький однажды представил Леонова Сталину как главного русского писателя.
Производственный роман «Соть» (1930), роман о людях науки «Скутаревский» (1932), «Дорога на Океан» (1935) – три произведения Леонова о первых пятилетках, индустриализации.
К началу Великой Отечественной войны Леонов – признанный классик советской литературы. В год 40-летия он награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Пьеса Леонова «Метель» была резко раскритикована на заседании политбюро 1940 года за «злостную клевету на советскую действительность». Среди других пьес Леонова – «Волк», «Ленушка» и «Золотая карета».
Выделяют военную пьесу 1942 года «Нашествие» и повесть «Взятие Великошумска» (1944).
Ещё одно заметное произведение Леонова – роман «Русский лес» (1953). Русский характер тесно связан с природой, человек зависим от неё, и когда он вмешивается в её законы, пытается покорить и подчинить себе, ситуация становится опасной.
Писатель любил деревья, лес для него – источник вдохновения. Он мастерил мебель, плотничал. В Переделкино Леонов разбил сад, собрав образцы редких растений со всего мира.
В романе «Русский лес» впервые звучит экологическая тема, что резонирует с национальной программой озеленения, реализуемой в послевоенные годы на государственном уровне. Книга получила Ленинскую премию в 1957 году.
Киноповесть Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961) экранизирована в 1975 году (реж. – М. Швейцер).
В 1972 году Леонов избран действительным членом АН СССР. Кавалер шести орденов Ленина, дважды номинирован финским славистом В. Кипарским на Нобелевскую премию.
К своему итоговому роману «Пирамида» Л. Леонов шёл постепенно. Начался он с текста «Мироздание по Дымкову», который появился в журнале «Наука и жизнь» в 1974 году. В 1979 году в журнале «Москва» вышел новый фрагмент будущего романа – «Последняя прогулка». Были и другие публикации, все они прошли почти незамеченными. Читатели знали, что роман пишется и его герой – ангел. Также в нём задействованы сатана Шатаницкий, девушка-медиум, фигурирует и Сталин.
Последний роман – очень сложная проза, перенасыщенная философией и аллюзиями попытка связать научную и теологическую картины мира – в неоконченном виде Леонов успел его опубликовать, это произошло в 1994, в год его ухода из жизни. О книге молчали на протяжении 15 лет.
Новую волну интереса к творчеству Леонида Леонова запустил Захар Прилепин, автор нескольких книг о творчестве писателя и составитель собрания его избранных сочинений. В 2010 году в серии «ЖЗЛ» вышла биография ««Леонид Леонов: игра его была огромна».
Прилепин считает Леонова великим, но «замолченным» автором. К примеру, цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках», а также его романы «Барсуки» и «Русский лес» позволяют считать Леонова одним из основоположником течения писателей-деревенщиков в русской литературе.
«Клеймо «совписа» в случае с Леонидом Леоновым – неподходящая квалификация, в силу множества причин.
Тем, кто хочет ознакомиться с творчеством Леонова, Прилепин в одном из постов в соцсетях советует: «Начинать его чтение надо с маленькой повести «Evgenia Ivanovna». Потом – «Необыкновенные рассказы о мужиках», «Дорога на океан», «Саранча», «Вор», и наконец – «Пирамида». И добавляет: «Леонов – гений. Но читать и понимать его – труд. Будьте к этому готовы».
Повесть «Evgenia Ivanovna» о русской эмиграции написана в 1938 году, впервые опубликована в 1963.
Также Прилепин выделяет повести Леонова «Петушихинский пролом», «Белая ночь» и «Провинциальные рассказы». «На таком стилистическом уровне не писали в XIX веке и почти не пишут до сих пор, – утверждает он. – А про «Пирамиду» я вообще молчу... Её стоило бы ещё раз отредактировать, конечно, и я ищу издателей для того, чтоб они готовы были опубликовать почищенный текст (я взялся бы организовать работу над редактированием «Пирамиды» совершенно бесплатно), – но даже в нынешнем состоянии «Пирамида» – это нечеловечески мощная работа, мучительно интересный текст».
Среди особенностей стиля письма Леонова – плотность языка, насыщенная образность, а также знаменитая безглагольность: «Это был котенок... забредший во утоление любознательности», «сом... бывает наказуем положением во щи», «снабженный всем на одоление жизни, одного лишь дара смеха лишен был Чадаев».
В критических отзывах на творчество Л. Леонова неоднократно говорится о том, что писатель всегда отстранён от своих героев, он не сочувствует им, он занимает позицию наблюдателя.
Прилепин приходит к такому выводу: «Его книги просто клад для филологов. Копать – не перекопать».
Леонид Леонов, Пирамида, роман, фрагмент, начало
Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать ее в нынешнем состоянии. Спешность решенья диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений – вероисповедных, этнических и социальных – и уже заключительного для землян вообще. Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды.
Однако наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может вылиться в скоростной вариант, когда обезумевшие от собственного кромешного множества люди атомной метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие – только чудо на пару столетий может отсрочить агонию.
Из-за недостаточной емкости памяти людской события угасающей поры хранятся ею в тесной упаковке мифа или апокрифа, вплоть до иероглифа. Громада промежуточного времени, от нас до будущих хозяев омолодившейся планеты, уплотнит историю исчезнувших предшественников в наконец-то прочитанный апокриф Еноха, который объясняет ущербность человеческой природы слиянием обоюдо-несовместимых сущностей – духа и глины. Гулкое преддверие больших перемен надоумило автора огласить свою, земную версию о том же самом на страницах предлагаемой книги.
21 марта 1994 года, автор
Часть 1. Загадка
Глава I
Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорченье ремесла с мотивировкой, сулившей на сей раз наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы передоверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного. Неделю спали не раздеваясь, в ожидании ночного стука в дверь, поневоле мирясь с тишиной, пока опережают более срочные кандидаты на возмездие и длится сезонно-ведомственная перегрузка.
Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетья, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб наудачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости.
Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. По-трамвайно, с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль всяких новостроек, обреченной на снос деревенской ветоши и зеленых заборов птицефабрики, мимо пустыря с горелыми бараками; и, помнится, сквозь знобящий зуд, смрад и лязг дорожных машин выходил наконец в моросящий загородный простор. Для надежности еще чуток тащился по раздолбанному грузовиками проселку, чтобы у сворота на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего, царской булыгой крытого тракта, уводившего во глубину сибирских руд и дальше – еще страшнее. Отсюда полчаса ходьбы до облюбованного мною уголка на земле.
Так, к сумеркам, добирался я до старинного, в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского некрополя. Основанный в екатерининскую пору, он стал у москвичей заветным местом для раздумий о потустороннем, а там, глядишь, и самого погребенья, где вдали от городской суеты, под сенью раскормленной сирени и среди скромных современников покоились со своими супругами забытые ныне столпы отечественной коммерции, медицины, адвокатуры и сцены, а также их усопшие малютки. Снаружи к дремучему тамошнему древостою примыкала опрятная березовая рощица, освоенная окрестными жителями под бытовую надобность выходного дня. Подтверждалось, как обожает младая жизнь резвиться у гробового входа. К шелесту палого листа под подошвой то и дело примешивался хрустящий отзвук недавних гулянок, компанейских общений с возлияниями. Здесь, на пятачке моей пустыни, под утешный скрежет битого стекла кружил я, слагая мысленное, с отказом от ремесла, послание потомкам.
Меня приманил слабый загадочный свет меж обнаженных ветвей в глубине. Через подвернувшийся лаз в кирпичной кладке кладбищенской ограды с холодком в спине двинулся я на ощупь среди крестов и статуй. Удача вывела меня к древнему храму, смутно белевшему сквозь изморось под пологом низких лохматых небес. Судя по благостному сиянию в глубине оконных амбразур, там внутри шла прощальная вечерняя служба. В воображении моем косяком вытянутая на восток, обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плаванье. Все было готово к отплытию: провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег, словно ветер иной, запредельной непогоды клокотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову. Не обошлось без колебаний, как могло состояться богослужение в храме, закрытом две пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронтоне девизом безбожья: в здоровом теле здоровый дух, который по Ювеналу, кстати, достигается лишь упорной молитвой богам. Вдруг мнимая палуба качнулась подо мною. В запасе еще оставался целый миг для бегства, но одержимость моя оказалась сильнее непонятного страха.
Я перешагнул порог и, отойдя в сторонку потемней, огляделся.
Всенощная подходила к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести его утлое суденышко на вечное пристанище вскрай моря.
После знобящей осенней мглы в лицо повеяло приветным теплом горящего воска. Храм представился мне просторнее своих истинных размеров за счет полупотемок и той гулкой тягостной пустоты, что наступает в таких зданиях перед уходом божества. Два мощных столба сводчато подпирали нависавший сверху сумрак ночи. Чем жарче вера, тем проще требуется ей жилище; невеселая скудость сияла вокруг. Осенняя сырость сползала из дырявого купола, и ветерок запустенья раскачивал пламя свечей. Некому стало залатать кровлю, прибрать сизый и плоский, невесть откуда взявшийся и как бы приступкой служивший камень у подножья колонны. Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель. От иных только и сохранилось – осеняющее троеперстье, развернутый свиток в руке, клочок святительского омофора. Уцелевшие, похоже, вопросительно, как в неминучую судьбу свою, вслушивались в доносившийся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжаньем сопровождаемый, девичий дисканток, потому лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала. Трудно было уловить смысл исполняемого ирмоса, звучавшего подобно вокализу, куда каждый вправе вкладывать свое содержанье. Пленительный голос принадлежал совсем юной девушке в венчике из плетеных косичек. Ей вторил старик в округлой, неухоженной бороде. Втроем со священником в алтаре они составляли церковный причт бывшего старо-федосеевского погоста.
Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое вниманье. Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, не мне однако. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая, со скорбной морщинкой у рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служила приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место – узнать, кто ее незримый собеседник.
Сквозь плывучее свечное мерцанье виден был по каменному своду колонны изображенный в полный рост, узкоплечий, скорее долговязый, нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша; и хотя без обычных примет небесности, сразу в нем опознавался ангел. Непостижимо, как было ему канонически дозволено вместе с высшими чинами архангельского звания оказаться на церковной фреске дальше паперти, где по обе стороны от входа белоснежно-крылатые вестники записывают на длинных свитках имена нерадивых прихожан, досрочно покидающих богослуженье. В отличие от них здешний был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке у него свисала связка крупных старинных ключей, что указывало на охранительную должность у загадочной, нарисованной позади него, на мощных петлях, кованой двери – входом неведомо куда. Какая-то сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она еще излучалась из самих стен, словно прохожая звезда начинила все кругом своим сверканьем и заодно породнила певчую девочку и ангела навек в некоем нездешнем качестве. По тогдашнему настрою моему немудрено было увидеть, как, чуть отслоившись от колонны, он молча, вполоборота, по странной птичьей повадке – сверху вниз, произнес подружке не услышанное мною слово, в ответ на которое она обронила такую же рассеянную и неразгаданную улыбку… И тотчас, повинуясь навыку ремесла, я поднял свою чудесную находку. Вряд ли поток нагретого воздуха от горящих свечей мог шевельнуть широкий рукав ожившего ангела, причем явственно звякнули ключи от затаившегося здесь клада. Меня пронзил озноб открытья.
Предвестье желанного недуга вытеснило недавнюю горечь, превращаясь в тугое бесноватое пламя. Напрасно прежние, в порядке очередности созревавшие души ненаписанных книг ломились из меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице, снаружи ничем для глаза не примечательная девочка со старо-федосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле и, оказалось впоследствии, неосуществимая тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого Бытия, служившие ориентирами нашего исторического местопребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований, ибо здесь с моей болью обитал я.
Хмурое небо конца тридцатых годов со зловещими тучками еще худших потрясений на горизонте не располагало к живописанию подлинной, тогдашней действительности, полностью осознанной современниками лишь к концу столетия.
Невзирая на осеннюю непогоду, я заладил таскаться в храм чуть не каждый вечер. Мне не везло. Кроме имени, за целую неделю только и удалось разведать, что Дуня моя доводилась дочкой тамошнему батюшке, квартировавшему в черте кладбищенских владений. Из облюбованного уголка с видом благоговейного усердия слушал я доносившееся из алтаря его молитвенное бормотанье, пока не привлек к себе вниманье приметливых старушек: случалось и на паперти под мелким дождиком безнадежно караулить свою удачу. Из-за нерешимости моей подойти для знакомства всякий раз девочка успевала сбежать мимо меня по ступенькам, под накинутой поверх головы ветошкой, и с легким шелестом исчезнуть в моросящей мгле.
С запозданьем пускался вслед, но мраморные истуканы и кресты на могилах ловили меня в объятья, железные решетки цеплялись за плечи, деревья кропили водою, ветками хлестали по лицу: мертвые жалели Дуню и оберегали ее, как могли, от людской огласки. Все же посчастливилось однажды прорваться сквозь их враждебный строй на опушку кладбищенской рощи. Погода чуть разветрилась, и молодой месяц на минутку высветил опрятную продолговатую поляну и уединенный, на дальнем конце, в окружении хозяйственных пристроек, приземистый, со ставнями и мезонином домик причта, куда скрылась беглянка. Догадка, что собак на кладбище не держат, повела меня прямиком на освещенные окна, отражавшиеся в просторной луже от вчерашнего ливня. Из предосторожности я двинулся к цели сторонкой, по еще влажной высокой траве, и тотчас скрипучий голос из палисадничка подтвердил, что не иначе как нечистая сила понесла меня в обход мощеной тропки.
Хромая, побрел я к обозначившейся в сиреневых зарослях скамейке, где в ошметках на босу ногу, с моряцким бушлатом на плечах сидел знакомый по клиросу старик. Подпершись локтями в колени, видать, по минованьи недуга и за неимением чего покрепче похмелялся всухую пряным лиственным настоем предзимья.
– Считай, пофартило тебе, любезнейший, – распрямляясь, заметил Финогеич. – Давно слежу, как ты путляешь. Закрывают нашу лавочку! Вот, бывший погребало – сижу на чистом воздухе, отдыхаю от жизни своей. Третьевось исторического покойника доставали, на новую квартиру перевезли: певец свободы, сказывали. Глыбокий раскоп оставили, засыпать не стали: все едина – на снос!
– Чего же не окликнул, чудило? – в поддержание знакомства по-свойски упрекнул я. – Впотьмах долго ли было и башку сломить.
– А я со скуки! Гадал, минует тебя судьбица либо в самый раз угодишь. Соображаю, нашему брату, который выпимши, тому любая ямина не повредит. А коли не спьяну, пошто к ночи притащился? Ежли грабить, то и со счету сбились, сколько разов грабленые!
По внезапному наитию я назвался сотрудником ходовой вечерней газетки: собираю крупицы истории, рассыпанные по плитам столичных некрополей. По вечернему часу любое объяснение звучало столь же правдоподобно. Во укрепление знакомства я протянул ему жестянку с трубочным табаком и осведомился: не курит ли?
В подозрении – не ловушка ли, не подкуп ли? – старик не торопился с ответной благодарностью:
– Кто же от угощенья отказывается, – усмехнулся он, делясь местом на скамье и с запасцем забирая щепотку, бумага нашлась своя. – При неполном нашем питании курево составляет существенную вещь. Сеял я его, табачище, в позапрошлом сезоне, неважный у нас родится… больно сладостен, а силен, до сажня вымахивает! Местность наша богатая…
Он принялся раскуривать даровую, в мизинец толщиной цигарку. Пока горела спичка, у меня было время подробней рассмотреть предлагаемого мне судьбой благодетеля. В придачу к черной, без сединки, бороде был он такой рябой, что нельзя было долго смотреть на него без утомленья, зато в глазницах светилась та прозрачная доверчивость, какую русская сказка приписывает лесной блазне.
– А вообще-то для покойника грунты здесь на редкость благоприятные, – продолжал он, затянувшись в ту полную силу, когда, по народному присловью, из-под ногтей дым идет, – желтый песочек по самую глыбь: ровно в материнском объятии лежи-полеживай… Кабы солнышка вдобавок! Знать московская тут похорониться стремилася. Русский купец предпочитал привозные мрамора, итальянские. Уже в ту пору, сразу после флота, обрядился сюда по нашему помиральному ведомству, тому сороковой годок пошел; тогда почти на кажной ямине стояла фигура прискорбного содержания: слезы проливающая дева над разбитым кувшином либо ангел, трубящий пробуждение мертвых… Не подумайте, что жалею, либо на Бога ропщу. Вот и при церкви нахожусь, а ведь не шибко верующий… Не в том смысле, что их вовсе не существует. По моему разумению, ангелы, как и бесы, почти те же люди: снаружи не отличишь, но хотя, несмотря на всею науку, в людском облике и действует промеж нас, а непохожие…
– В чем же, в чем же они непохожие? – бережно, чтоб не спугнуть удачу, дважды коснулся я заветной струны.
– Да как тебе пояснее выразить… С виду они обыкновенные, кепочка-шляпенка чуть на бочок, скромное пальтишко с зимним проветриванием, а от холода не дрожит! Сущий холостяк, а прибранный да ухоженный. Опять же, будучи под запретом пользовать на себя без крайности господнюю благодать, а даже без пищи обходится, разве только иногда для виду изюмцу поклюет. Словом, совсем двойной, а вся прочая сноровка людская. Далеко искать не надо; совсем недавно один такой, заблудившийся в здешних дебрях и весь в глине закостенелый, как раз на сей скамейке, где ты сидишь, беззвучно слезу обронил о своей участи на чужбине, если не считать землю местом его лишь временной деятельности…
– От одиночества, что ли? – тоном безразличия спросил я. – Почему бы чудаку не войти в близкие отношения с подходящей девицей как из хозяйственных соображений, так и для совместного проживанья? – И в ответ получил как раз ожидаемое опровержение догадки, что по бессмертью своему публика эта избавлена от земного воспроизводства себе подобных.
– Видите ли, в общем устройство их такое, что всем наделены, окромя глупостей, – намекнул Финогеич. – Какое будет ваше мнение на сей счет?
Я присоветовал старику обратиться письменно через газету к видному ученому по данной отрасли и другим пережиткам старины, некоему Шатаницкому, который повсюду, вплоть до отрывных календарей, опровергал обывательские суеверия.




