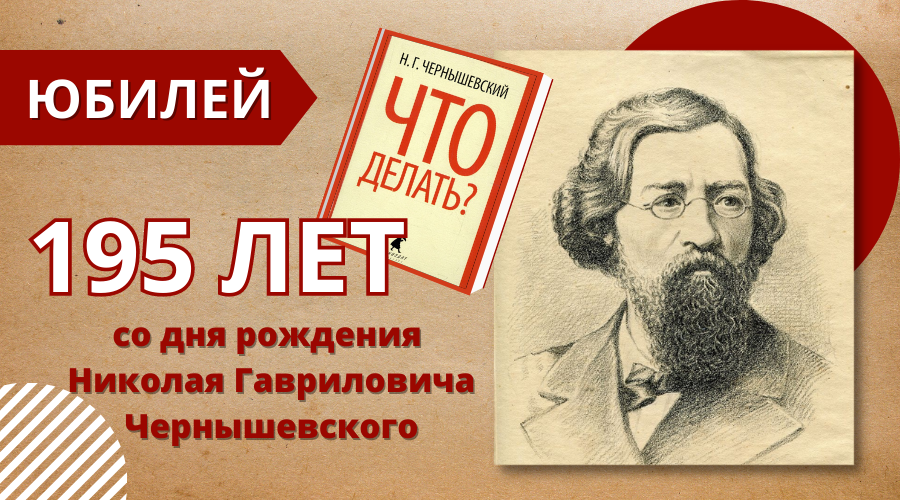
Николай Гаврилович Чернышевский родился 24 (12) июля в Саратове, в семье священника. Начальное образование получил дома, под руководством отца, затем окончил Саратовскую духовную семинарию. В 1846 году поступил на историко-филологическое отделение Петербургского университета, который окончил в 1850 году.
В годы учёбы пробовал свои силы в литературе, были написаны рассказ и повесть.
Больше всего интересовался политикой и общественными науками – изучал труды классиков немецкой философии, английскую политэкономию, идеи французского утопического социализма, а также труды русских мыслителей, в первую очередь В.Г. Белинского и А.И. Герцена.
После окончания университета некоторое время преподавал славистику в саратовской гимназии. В 1853 году вернулся в Петербург, где начал сотрудничать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и в литературных журналах – в «Отечественных записках», а затем в «Современнике», где быстро занял руководящее положение наряду с Н.А. Некрасовым и Н.А. Добролюбовым.
В 1855 году подготовил к защите магистерскую диссертацию на тему «Эстетические отношения искусства к действительности», в которой рассматривал основные положения материалистической эстетики Г.В.Ф. Гегеля. Искусство ориентировано на изучение и преобразование жизни, служение обществу. Главный тезис «Прекрасное есть жизнь» подчёркивает приоритет реальности по отношению к художественному творчеству. Диссертация вызвала недовольство в Министерстве народного просвещения, поэтому учёную степень Чернышевскому присудили лишь спустя три года.
С середины 1850-х годов Чернышевский стал фактическим редактором «Современника», журнал активно продвигал идеи сил революционной демократии.
В 1855–1856 году Чернышевский опубликовал статью «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которой наряду с историей литературы рассмотрел особенности развития русской литературы в 1840-х–1850-х годах, также в ней поднимаются социальные и философские проблемы. Человек тем сильнее, чем больше он знает об окружающем мире, а изменения в жизни людей возможны только тогда, когда они согласованы с действительностью.
В 1857 была выпущена статья «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность».
Работая над критическими статьями для «Современника» о творчестве А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева и других, Чернышевский подчёркивал социальное и нравственное значение произведений, а также на примере произведений обсуждал актуальные политические проблемы.
Знаменитая статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (разбор повести И.С. Тургенева «Ася») суть сатирический памфлет, обличающий либерализм в России. Эта статья признана одной из самых ярких работ отечественной публицистики второй половины XIX в.
Чернышевский одним из первых написал о своеобразии стиля сочинений Л.Н. Толстого, о психологизме в его автобиографической трилогии «Детство. Отрочество. Юность». Именно в этой статье был впервые в литературоведении использован термин «диалектика души».
Становится виднейшим и авторитетнейшим литературным критиком.
В конце 1850-х годов Николай Чернышевский участвовал в издании «Исторической библиотеки» – приложения к «Современнику», где печатались переводы классических сочинений по всеобщей истории, стал первым редактором «Военного сборника».
Публиковал в «Современнике» экономические и политические статьи. Имел свои взгляды на дальнейшее развитие России. Явился идейным вдохновителем зарождавшегося в России социализма и народничества.
В частности, выступил с резкой критикой крестьянской реформы 1861 года, участвовал в деятельности революционного подполья, в создании нелегальной организации «Земля и воля». Написал прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».
В июне 1862 года был арестован.
Находился в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, где активно продолжал литературную работу, в том числе написал роман «Что делать?» (1862–1863).
Автор рисует картину социалистического будущего в знаменитом четвертом сне главной героини Веры Павловны. Элементы утопии и пропагандистского жанра автор объединяет с действительностью, с вполне реалистическими идеалами главных персонажей. В представлении Чернышевского «перенести будущее в настоящее» не такое уж несбыточное дело, если действовать определённым образом. Герои Чернышевского – «новые люди» Вера Павловна, Кирсанов и Лопухов, а также «особенный человек», революционер Рахметов.
Так как цензура сосредоточилась на любовной линии романа, то его разрешили опубликовать в «Современнике» (1863). Запрет через некоторые время последовал, номера журнала были конфискованы, однако роман распространялся в многочисленных рукописных копиях и ещё несколько десятилетий оставался одним из наиболее значимых произведений для прогрессивного русского общества, оказал заметное влияние на развитие общественной мысли второй половины XIX – начала XX веков.
В начале 1864 года Чернышевский был признан виновным с формулировкой «в принятии мер к ниспровержению существующего порядка управления», его приговорили к 7 годам каторги и вечному поселению в Сибири.
В Петербурге состоялась публичная процедура «гражданской казни» Чернышевского – преломление шпаги над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, родительских и прочих).
После этого Чернышевский был отправлен на каторгу в Нерчинские рудники.
Дело Чернышевского имело большую огласку. На него реагировали и виднейшие деятели России, и простые граждане. Девочка-гимназистка, имя которой не сохранилось, писала на имя императора: «Ваше величество, посадите меня в какую угодно конурку, морите голодом, не давайте пить, лишите даже книг, но освободите Чернышевского».
Философ Василий Розанов несмотря на то, что вовсе не разделял взглядов Чернышевского, высказался о нём и его судьбе так: «Со времен Петра Великого не было человека, каждый шаг которого, каждая мысль которого дышала бы заботой об отечестве. Он бы Россию благоустроил. Вместо этого его сослали в Вилюйск, к сибирским медведям. Мы подошли в его биографии к Древу Жизни. Срубили и ободрали на лапти Обломову».
Через 7 лет, в 1871 году Чернышевский был переведён на поселение в Вилюйск (Якутия). В Сибири, несмотря на официальный запрет (у заключенного не было доступа к книгам, и он не должен был ничего сочинять), Николай Гаврилович не оставлял литературной и научной деятельности.
Написал ряд повестей и пьес, а также роман «Пролог», в котором события разворачиваются накануне крестьянской реформы 1861 года. Главный герой Волгин наделён автобиографическими чертами писателя, а прототипом другого героя, Левицкого, стал Н.А. Добролюбов.
Чернышевский был переведен в Астрахань в 1883 году, это был договор правительства и террористической организации «Народная воля», которая гарантировала, что в случае перевода при коронации Александра III не будет предпринято никаких радикальных действий.
Незадолго до кончины Чернышевскому было разрешено переехать в Саратов. Здесь он переводил работы зарубежных историков. Однако здоровье было серьёзно подорвано.
Николай Гаврилович Чернышевский скончался 17 (29) октября 1889 года.
Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского впервые вышло в 1905–1906 годах.
Для преобразования общества Чернышевский предлагал авторскую систему воспитания человека «нового времени», подчеркивал важность роли учителя-наставника для развития личности. Под человеком нового времени подразумевался творческий человек, лидер-творец, активно содействующий прогрессивному развитию России. При этом подчёркивалась необходимость свободы для человека.
Философ Николай Бердяев так писал о Н. Чернышевском в книге «Русская идея»: «…глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нём была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами».
Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»
роман, фрагмент, начало
I
ДУРАК
Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в девятом часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял нумер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в восемь часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь нумера и, пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих, – видно, заснул. Пришло утро; в восемь часов слуга постучался к вчерашнему приезжему – приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно – приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» – «Надо выломать двери». – «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.
Часам к десяти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, – успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».
Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ка под кровать» – и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, – на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:
«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2 и 3 часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».
– Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, – сказал полицейский чиновник.
– Что же такое, Иван Афанасьевич? – спросил буфетчик.
– Давайте чаю, расскажу.
Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.
В половине третьего часа ночи, – а ночь была облачная, темная, – на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие, – никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? – ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, – поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный или просто озорник, подурачился, – выстрелил, да и убежал, – а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».
Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «Какое подурачился – пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», – было мнение одних консерваторов; «промотался», – утверждали другие консерваторы. «Просто дурак», – сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, – все равно, глупая, дурацкая штука.
На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту – кто же стреляется на мосту? как же это на мосту? зачем на мосту? глупо на мосту! – и потому, несомненно, дурак.
Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, – следовательно, но застрелился. Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, – все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.
Все были согласны, что «дурак», – и вдруг все заговорили: на мосту – ловкая штука! Это, чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, – умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, – да, на мосту... умно!
Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, – и дурак, и умно.
II
ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА
В то же самое утро, часу в двенадцатом, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острову, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.
«Мы бедны, – говорила песенка, – но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться – знание освободит нас; будем трудиться – труд обогатит нас, – это дело пойдет, – поживем, доживем –
Ça ira,
Qui vivra, verra.
Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, – это дело пойдет, – поживем, доживем.
Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся – и обогатимся; будем счастливы – и будем братья и сестры, – это дело пойдет, – поживем, доживем.
Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, – это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, –
Donc, vivons,
Ça bien vite ira,
Ça viendra,
Nous Ions le verrons!»
Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, – было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, – по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, – исчезли бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.
В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.
– Посмотрите, Маша, каково я шью? я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе.
– Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!
– Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!
– А я принесла вам письмо, Вера Павловна.
По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» – и опять рыданье.
– Верочка, что с тобой? разве ты охотница плакать? когда ж это с тобой бывает? что ж это с тобой?
Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.
– Прочти... оно на столе...
Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.
Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было невелико, всего-то слов десятка два:
«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».
Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец, он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:
– Верочка!
Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:
– Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! – И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.
– И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват – я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!
Она задыхалась от рыдания.
– Верочка, – тихо и робко сказал он, – друг мой!..
Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:
– Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, – я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!
Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, – и все пройдет... пройдет...» А перо без его ведома писало среди какой-то статьи: «Перенесет ли? – ужасно, – счастье погибло...»
– Милый мой! я готова, поговорим! – послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.
– Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.
– Верочка, чем же ты виновата?
– Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, – и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, – где? в Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь – тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.
Он хотел обнять ее, – она предупредила его движение.
– Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее – видишь, как крепко! Но прости!
Он не выпускал ее руки из своей.
– Довольно, иди. – Она отняла руку, он не смел противиться. – Прости же!
Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.
Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «Кто это бежит за мною? – верно, Маша... верно, с нею дурно!» Он обернулся – Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.
– Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!
Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.
* В оформлении обложки использован портрет Н.Г. Чернышевского работы Е. Протопопова.




